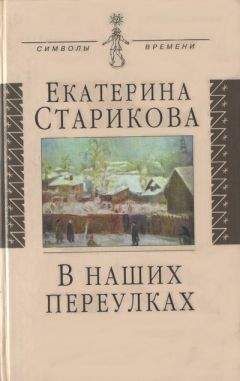Мы пили рыбий, тресковый, жир, привезенный в полуголодную Москву в больших жбанах теми исследователями, кому повезло вернуться с севера. Они по-братски делились добычей с остальными сотрудниками ГОИНа, и мама с торжеством, как драгоценность, вносила в нашу комнату бидончик — тот самый, памятный мне по поездке к медовым старичкам. Свежий тресковый жир не был похож на отвратительное вонючее содержимое аптекарских бутылочек, считавшихся нашим спасением от малокровия. То был кошмар нашего детства. А этот рыбий жир мы выпивали с благоговением, остро чувствуя себя приближенными к героизму арктических открытий. И мама, и я носили в то время воротнички, изготовленные из тонкой планктонной сетки, с помощью которой отлавливались из океана экспонаты для изучения. Других-то украшений не было.
Как и всех в институте, маму наградили серебряным с синей и белой эмалью значком с надписью «ГОИН». Был десятилетний юбилей института. При мамином равнодушии к вещам значок очень скоро перекочевал в наши руки. Мы сумели им распорядиться скоро и достойно. Он был водружен нами на могиле любимой аквариумной рыбки, торжественно похороненной в сугробах Новинского бульвара. На этой могиле было поставлено нами два памятника, два нагрудных значка: «ГОИН» и «Друг детей». Видимо, второй выдавался как награда за помощь беспризорникам. Мы были уверены в оправданности обоих «памятников». Рыбка явно имела отношение и к водным пространствам, и к нам, детям.
В 1931 году, как я уже вспоминала, умерла в Нижнем Ландехе наша бабушка Марья Федоровна Старикова, а в Москве, в Серебряном переулке наша прабабушка Елизавета Семеновна Краевская. Мы увлекались похоронами и разговорами о смерти. Вместе с Андреем Турковым мы строили планы оживления людей и животных. Из горчицы, перца и уксуса и прочей «дряни» мы составляли эликсиры, от которых, по нашему мнению, должны были восстать и мертвые. А пока хоронили рыбок и замерзших птиц.
Зачем мама возила меня в свой ГОИН зимой 1931–32 года? Не знаю, но помню две поездки туда. На замерзшем трамвае, набитом людьми, через всю Москву, в Сокольники. Институт помещался в полуразрушенной громадной церкви. Ничего интересного для себя я там не обнаружила: неестественно высокие потолки, голые стены, канцелярские столы, скучные бумаги, незнакомые люди и холод. Как и везде в ту зиму — холод: дома, в школе, в трамвае и здесь — в институте. И как мама находила в этом скучном месте столько привлекательного?
Куда более сильное впечатление, чем сам ГОИН, на меня произвело наше с мамой посещение фабрики-кухни, недавно построенной возле института, куда он и был «прикреплен» на кормление.
Столовая фабрики-кухни делилась на две части: нижний зал — для рабочих и рядовых служащих, верхний, соединенный с нижним несколькими широкими ступенями и деревянной балюстрадой, — для ИТР, то есть инженерно-технических работников. Я тогда впервые услышала это распространенное в 30-е годы обозначение. ИТР в то время были объявлены привилегированным слоем.
В первое мое посещение ГОИНа мама повела меня обедать в рабочую часть столовой, где, видимо, ей и полагалось есть. Еда была отвратительна: пустая мутная похлебка, липкая перловая каша и ломоть хлеба. Привередничать, однако, не приходилось, поделив один обед пополам, мы с мамой все съели. Я ела и смотрела на оборванца с одутловатым лицом, ходившего между столами и жадно следившего за обедавшими. Если кто-нибудь не доедал своей порции, он кидался на остатки, как зверь, и жадно вылизывал алюминиевую миску. Я смотрела на него с ужасом. Мама объяснила мне, что человек этот, вероятно, приехал оттуда, где сильный голод, а голод во многих местах. Ты видишь сколько нищих на улицах? Сколько их звонит в нашу дверь? Я, конечно, видела их. Но чаще всего это были крестьяне в лаптях и домотканых коричневых поддевках. Они протягивали умоляюще руки к нашему скудному пайку у булочной. Там мы не без сожаления отдавали им довески, если они были маленькие. Большие полагалось приносить домой, а небольшие были в нашем распоряжении. Видела я нищих и у нашей квартирной двери. Но там мы чаще подавали им не драгоценный хлеб, а медные деньги. Крестьяне крестились, принимая милостыню, и благословляли нас. В них было достоинство и благообразие. Отличались они и от ранее нам привычных московских нищих. Еще совсем недавно у дровяного склада на углу Молчановки постоянно стоял слепой человек в черных очках и военной фуражке, при звуке шагов прохожего он повторял всегда одну и ту же фразу: «Подайте Христа ради бывшему офицеру». Его лицо было покрыто синеватыми точками. Следы порохового взрыва, объяснила мама и добавила как бы про себя: «И как не боится признаваться, что офицер».
Человек, вылизывавший миски в столовой фабрики-кухни, вызвал у меня не столько жалость, сколько отвращение. Он почти потерял человеческий облик. Ужас происходящего, может быть, усиливался тем, что совершалось это под светлыми сводами нового конструктивистского здания в соседстве с пальмами и скатертями верхнего итеэровского зала. Стекло и бетон. Равенство и братство. Как мечталось социалистам. Я, конечно, еще не знала слова «конструктивизм», не слышала об утопиях социалистов. Но контраст между необычной сверхсовременной архитектурой и унижением человека почувствовала остро. А теперь вот удивляюсь другому: как терпела охрана столовой голодного пришельца? А охрана была: у входа каждому выдавалась алюминиевая липкая ложка, при выходе сердитая тетка ее отбирала, как пропуск. Это тоже меня поразило.
Когда во второй раз — вскоре после первого — мы с мамой посетили ГОИН и тоже обедали на фабрике-кухне, мы гордо прошли мимо голых засаленных столов нижнего зала и поднялись по ступеням к белым скатертям зала верхнего. Откуда у мамы явилось это разовое право на привилегию? Не уступали ли уезжавшие в экспедиции сотрудники свои талоны оставшимся? Не из-за них ли меня повезли в Сокольники? Не пропадать же обеду? Ничего не знаю. Но под теми пальмами однажды сидела и итээровский борщ ела, а еще — не пробованный никогда до того настоящий шницель. И еще кисель. Каждому — целый обед. А ложку, предварительно чисто облизав, у выхода и в этот раз сдали в строгие руки грубой охранницы. И никаких нищих сверху не заметили.
Но что я все о ГОИНе и о маме? А где же папа? Он часто ездил в командировки в Сибирь, в ту пору чаще всего в Красноярск. Он восхищался этим городом. И привозил из Сибири и показывал нам фотографии енисейских «столпов» — гранитных скал под Красноярском. Нельмы теперь не привозил.
3
Зима 1932–33 годов прошла для нас веселее, чем две предыдущие, потому что дома мы оставались не с чужой домашней работницей, а с Саней Одуваловой.