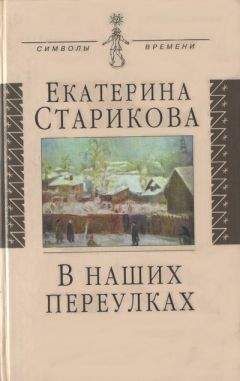Саня Одувалова, быстро войдя в сложный и бедный московский быт с его карточками, очередями, примусами, коммунальными квартирными страстями, в то же время явно и открыто тосковала о деревне. Она готовилась весной вернуться домой. Сидя вечерами за длинными пяльцами, поставленными под окном вдоль мягкой и тоже длинной «дворянской скамеечки», Саня без устали «строчила» многочисленные батистовые изделия (трикотажного дамского белья еще не было) для мамы, ее сестер, подруг, наших соседок и вслух подсчитывала свои заработки — накопления на приданое. В сундучке у нее уже лежал розовый и салатный шифон на платья и блестящие резиновые ботинки — все из торгсина, приобретенное на царские золотые, запеченные в Волкове Анной Федоровной в ржаные кокуры и присланные в Москву дочери. Папа разламывал лепешки, чтобы вынуть монеты, а мы все трое стояли в ожидании этих обломков и тут же съедали их. Лежа в постели перед сном я воображала себя взрослой в воздушных разноцветных платьях из Саниного шифона.
Последнее воспоминание о Сане в «той жизни» — Великий пост 1933 года. О том, что пост, мы узнаем, конечно, от Сани. Мы, дети, сидим все трое в ряд на «дворянской скамеечке», подвинутой к столу (мы всегда так сидели за столом) и едим крутую пшенную кашу с русским маслом. Саня сидит напротив и не ест. Она постится. Пробует проглотить кашу без масла — не лезет в горло, сухая. «Льняного маслица бы!» — мечтает Саня. Но постного масла не выдали по карточкам. Видя мучения Сани, мы дразним и уговариваем ее: знаешь, как вкусно? Ну попробуй, ну немножко! Вот увидишь, ничего не будет. Саня вдруг кладет капельку масла в свою тарелку, подносит ложку ко рту, отдергивает ее, снова подносит и причитает: «Ох, грех-то какой! Что маменька бы сказала?» Наконец решительно крестится и глотает первую ложку скоромной каши, а затем быстро и брезгливо очищает тарелку и выходит из-за стола, не глядя на нас, свидетелей ее падения.
В апреле 1933 года Саня уехала от нас. Отец ее торопил: «Возвращайся, пока реки стоят». Я как-то не заметила момента Саниного отъезда: не стало ее, и дом поскучнел. Еще помню фразу из ее первого письма по приезде в деревню: «Выхожу замуж на Красную горку за одного знакомого жениха». С мужем своим Семеном Романовым Саня прожила до начала войны, до его ухода на фронт. В 1934 году родила свою первую дочь Нину. Шла коллективизация и индустриализация, но шла и обычная жизнь со свадьбами, рождениями и смертями.
В связи с отъездом Сани маме приходится уйти из ГОИНа. Мне объяснили: мама не может работать, потому что я плохо учусь, она вынуждена «заняться мною». Но вот недавно мне попало в руки чудом сохранившееся мамино письмо 1932 года к ее сестре, где без ссылок на мои грехи мама пишет о невыносимой обстановке в ГОИНе после ухода прежнего директора и назначения нового, пишет она там и о своем страстном желании покончить с опостылевшей работой. В 1933 году она с ней и покончила.
6
Летом 1933 года наша семья впервые никуда не уехала из Москвы — не стало такой возможности. Впрочем, я-то большую часть лета провела на роскошной даче в Ильинском по Казанской дороге у тети Тюни — младшей маминой сестры Наталии Михайловны.
Выйдя в 1930 году замуж за известного в прошлом петербургского, а потом московского врача Владимира Николаевича Мамонова, тетя Тюня вдруг из бедной советской служащей, из хорошенькой, очень хрупкой «барышни» (так тогда еще говорили) превратилась в холодную и сдержанную grand dame (как ехидничали ее сестры). Владимир Николаевич был намного старше тети Тюни, и этим, вероятно, объяснялось ее старание быть «важной». Впрочем, может быть, все было сложнее. Я слышала краем детского любопытного уха разговоры взрослых о давней влюбленности девушки-подростка в приятеля отца, холостяка и «бонвивана», о его сомнительном к ней отношении и о его вдруг, «к старости», проснувшейся страсти к ней, и о ее расчетливом согласии выйти за него замуж. Дача (московского жилья у Мамоновых, собственно говоря, не было, в двух московских комнатах жила мать Владимира Николаевича, а о совместном жилье и речи не могло быть), наследственные бриллианты, новые туалеты были реваншем былого оскорбленного самолюбия. Где здесь правда, а где домыслы? Не знаю. Но что тетя Тюня была очень сдержанна с седым веселым мужем, а он ее обожал, это я видела, живя с ними на даче и все примечая.
Ах, как я скучала на этой роскошной даче!
Целиком из светлого дерева, ни внутри, ни снаружи не оштукатуренная и не окрашенная, дача была построена в стиле модерн — с фонарем в столовой, с венецианским окном в спальне, с открытой овальной террасой, спускавшейся широкими низкими ступенями в обширный цветник, который был окружен гектаром соснового леса. Вероятно, тетя Тюня любила меня, раз брала в свое роскошное уединение, которое так ценила, и терпела мое присутствие. Но тут еще играла роль идея «хорошего воспитания» племянницы, живущей в «дикой обстановке» советской бедности и осуждаемого сестрами маминого «легкомыслия», о котором те не стеснялись говорить при нас. Бездетная тетка (она родила мертвого ребенка и больше не могла иметь детей) с целью достойного воспитания всем своим племянницам по очереди уделяла внимание и предоставляла на время кров. Но я была первой.
В воспитательных целях однажды по случаю прихода в гости к тетке пожилой соседки я была посажена за самовар разливать чай. Молча удивляясь бесконечности процедуры чаепития, но чинно исполняя обязанности «барышни», я учтиво спросила гостью, заметив ее опустевшую чашку: «А вы будете пить шестую чашечку?» Старуха вспылила и крикнула мне в лицо: «Если здесь считают выпитые чашки чаю, я больше пить не буду!» Я же была немедленно выдворена из-за стола и больше за этим самоваром не сидела.
Но faut pas с моей стороны иногда повторялись. В Ильинском была обширная ванная комната, однако накачивать воду в сорокаведерный чан на чердаке давно перестали. Тетя Тюня ставила в ванну таз с горячей водой, я залезала в ванну, она меня мыла, а потом обдавала с головы до ног теплой водой из кувшина. «А почему вода на мне собирается такими каплями?» — спросила я однажды тетку. «Потому что кожа человека выделяет жир и не впитывает воду», — объяснила мне тетка. «И твоя кожа выделяет жир?!» — изумилась я, глядя на предельно худую тетю Тюню. Такая обычно ироничная, она на этот раз всерьез обиделась: «Что же я — не человек?» И несколько часов со мной не разговаривала.
Спокойная и в общем послушная, от скуки я находила в Ильинском не свойственные мне недозволенные развлечения. Стоило только тетке отправиться в Малаховку на рынок и оставить меня одну на даче в обществе старой собаки, я начинала лихорадочно искать способ сделать что-нибудь недозволенное. Несколько минут я выбирала: или взять большую ложку и попробовать варенье из всех аккуратно обвязанных бумагой баночек в буфете? Или нацепить на себя все теткины украшения? Равнодушие к сладкому обычно решало выбор в пользу драгоценностей. Они открыто лежали на изящнейшем туалете теткиной спальни. Я унизывала пальцы перстнями, надевала на шею нитку жемчуга, свисавшую ниже моих ободранных колен, и выходила в сопровождении собаки в сад, воображая себя принцессой, осматривающей свои владения. Но стоило прозвучать на станции паровозному гудку (поезда были еще паровые, а их расписание я примерно знала), как я кидалась в дом, судорожно снимала с себя украшения, усаживалась на ступени террасы и раскрывала книгу как примерная девочка.