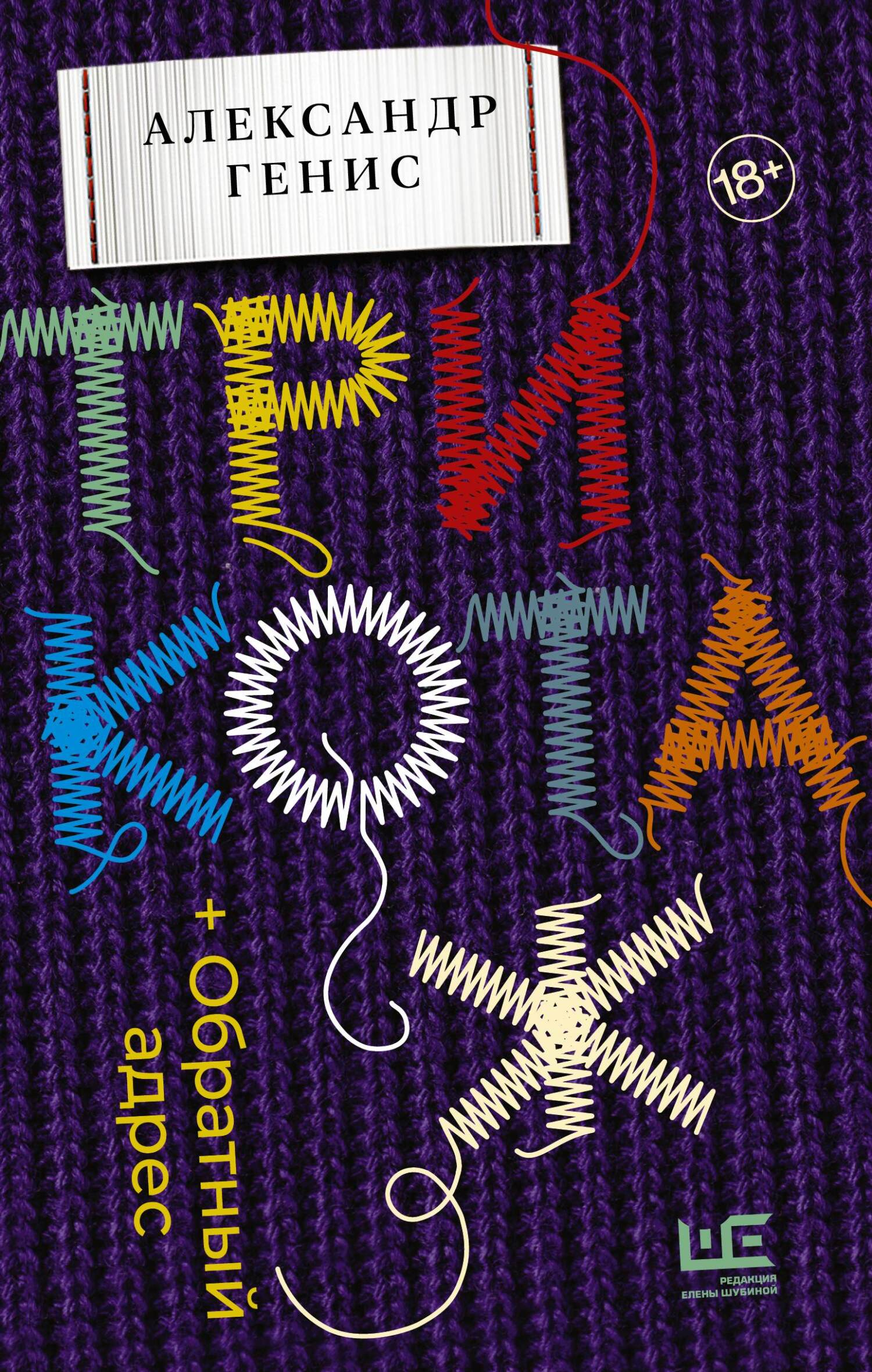в нашем старом доме было добрых 3 метра. Мы провели следственный эксперимент и обнаружили, что, даже стоя на унитазе, невысокий Мамлеев не мог испачкать пиджака. Оставалась левитация, но Юра хитро цыкал зубом, потирал пухлые ладошки и отказывался как подтвердить, так и опровергнуть эту гипотезу.
– Удивительное рядом, – заключил я и отправился на лыжах за пивом.
3
Прожив в Америке пять лет, я еще не понял, что здесь – это не там, но уже стал об этом догадываться. Проблему исчерпывала историческая аналогия. Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. Как и он, я не хотел признавать ошибку. Вернее, не мог, ибо не знал, чего не знал. Это наиболее оыпасный вид невежества, который мешает задавать вопросы.
С ответами мы все справлялись лучше, объясняя дружественным американцам всю глубину их заблуж-дений. За это русских прозвали You don’t under-r-stand. Этими словами мы, следя, чтобы водку не разбавляли льдом, начинали любой разговор на вечеринках. Обычно дальше никто не слушал, и мы, убедившись в тщетности попыток просветить Америку, жаловались своим.
– Страшно представить, – начинал один, – но они не читали Драйзера.
– На авианосцах, – продолжал другой, – изнеженным морским пехотинцам подают мороженое.
– Негры армию захватили вплоть до генералов, – поддакивал третий.
– И это, – горевал четвертый, – когда в Мексике зреет коммунистическая революция.
– А президент, – возмущался пятый, вспоминая поцелуй Картера с Брежневым, – милуется с кремлевскими старцами.
– Всё потому, – ставил диагноз шестой, – что в Америке слишком много свободы.
– Для нас с Фимой, – спорил седьмой, – в самый раз.
– А для остальных, – не соглашался шестой, – чересчур.
– И всё из-за того, – завершал беседу начавший ее, – что они не читали Драйзера.
Справедливости ради надо признать, что Америка отвечала нам тем же, особенно в Голливуде, где мало что изменилось со времен упомянутой Ильфом и Петровым картины “Княгиня Гришка”. Из фильма в фильм по экрану бродили чекисты в гэдээровской форме с фамилиями русских классиков. Они танцевали вприсядку и пили с рассвета, закусывая блинами с кабачковой икрой. Даже буквы в кино не умели срисовать: “К” и “Я” смотрели в другую сторону.
Не снеся обиды, я попросил вмешаться земляка – Илью Баскина. Талантливый, ехидный и остроумный, он прямо из Рижского ТЮЗа попал в Голливуд, где сумел изрядно прославиться. С ним невозможно бы- ло гулять по улице, потому что каждая вторая школьница просила автограф. Баскин играл незадачливых русских, которые льстили американским зрителям своей неопасной глупостью. Сам он любимой ролью считал монаха-травника в экранизации романа “Имя Розы”. Ради нее Илья выбрил тонзуру, удивляя ею других евреев.
– Ну почему, почему ты им не скажешь?! – взвыл я, когда мы подружились. – Ведь кроме тебя в Голливуде и русских нет.
– Потому и нет, что наши всех учат, – холодно ответил он и покатил по Сансет-бульвару в открытом “ягуаре”.
Убедившись, что американцы безнадежны, мы с Вайлем решили начать с себя. Новая книжка была попыткой понять, куда и зачем мы попали. Выводя сальдо, мы перечисляли и сравнивали то, что потеряли, с тем, что приобрели. Получалось примерно поровну, если не судить по украденному названию – “Потерянный рай”. Им, конечно, была та Америка, в которую мы стремились, а не та, в которой оказались. Догадываясь, что эти страны невозможно совместить, мы хотели заменить советскую мечту на американскую. Но для этого надо было наконец открыть Америку, а мы пока не знали ни где, ни как.
Услышав разочарование в заглавии книги, ею заинтересовались русские в Израиле, где со злорадством относятся к изменившим ему евреям. Издательством “Москва – Иерусалим” заправляла чета Воронелей. Саша – автор лучшей книги о русских евреях “Трепет забот иудейских”, Нинель писала все остальное. Самой смешной была пьеса “На дебаркадере”, где нематерные слова встречались только в заголовке.
Не добравшаяся до Америки и никого не заинтересовавшая в Израиле, наша книжка была, пожалуй, важна для одних авторов. Мы покинули мир, где, как в сказке Андерсена, каждая вещь (от тонкого стакана до граненого) могла поделиться своей историей. Мы попали в мир, говоривший непонятно, да и не с нами.
Впрочем, мне было только тридцать, и я не унывал, ощущая себя командировочным.
25. Вернисаж, или Призраки
1
Опьяненные успехом “Нового американца” и отравленные его крахом, мы с Вайлем уже не мыслили жизни без своего органа. Он казался нам бесспорно важнее какой-нибудь селезенки. Поэтому, соблазнившись сомнительным предложением, мы пустились в очередную авантюру и открыли еженедельник “Семь дней”.
Самыми примечательными в нем были Бахчанян и зарплата. Издатели приносили нам деньги в полиэтиленовом мешке из супермаркета Price Rite, что в переводе означает “правильная цена” с ошибкой. Мы тоже так считали, но исправить ее не могли, ибо получали жалованье теми самыми однодолларовыми купюрами, которыми покупатели расплатились за наш журнал в газетном киоске.
Ни до, ни после “Семи дней” мне никогда не приходилось видеть столько грязных денег. Многие были вымазаны то ли кровью, то ли помадой. Вашингтону, как вождям из наших учебников, пририсовывали очки, трубку и гениталии. Иногда на банкноте читался записанный впопыхах телефон, и меня подмывало по нему позвонить, но я стеснялся акцента и боялся абонента.
Раз в неделю мы долго делили кучу денег на три и удивлялись, как мало выходит на нос, особенно Бахчаняна, у которого он был больше моего, но совсем другой – ассирийской, как мы специально выяснили в музее, формы.
Журнал “Семь дней” оказался выдохшимся шампанским. Мы имитировали пропавший энтузиазм, стараясь потакать тому неизвестному читателю, от чьего доллара мы напрямую, а не метафорически зависели. Для него мы печатали из номера в номер остросюжетную и маловразумительную “Хватку шайтана”, рассчитывая, что роман понравится этому неприятному субъекту. Поскольку я ни разу его не встречал, мне он казался привидением капитализма, бездомным духом наживы, который, словно тень отца Гамлета, лезет не в свое дело и портит настроение. Хорошо еще, что, откупившись от него “Шайтаном”, мы отдавали остальные страницы Бахчаняну.
Вагрич служил тайной причиной и очевидным оправданием всей затеи. Журнал стал его вотчиной, которой он распоряжался как собственной галереей или даже музеем. Пользуясь нашим безоговорочным восхищением, Бахчанян перевернул доску: своими текстами мы оформляли его картинки. Когда мы не знали, что к ним написать, Вагрич пожимал плечами, и журнал печатал его работу на развороте. Так выходил плакат размером с дверь холодильника. Например, вареный омар с популярным у тогдашних пацифистов лозунгом “Лучше быть красным, чем мертвым”.
Неисчерпаемый Вагрич работал во всех жанрах. Иногда это были загадки для начинающих: “На Красной площади стоит, в нем