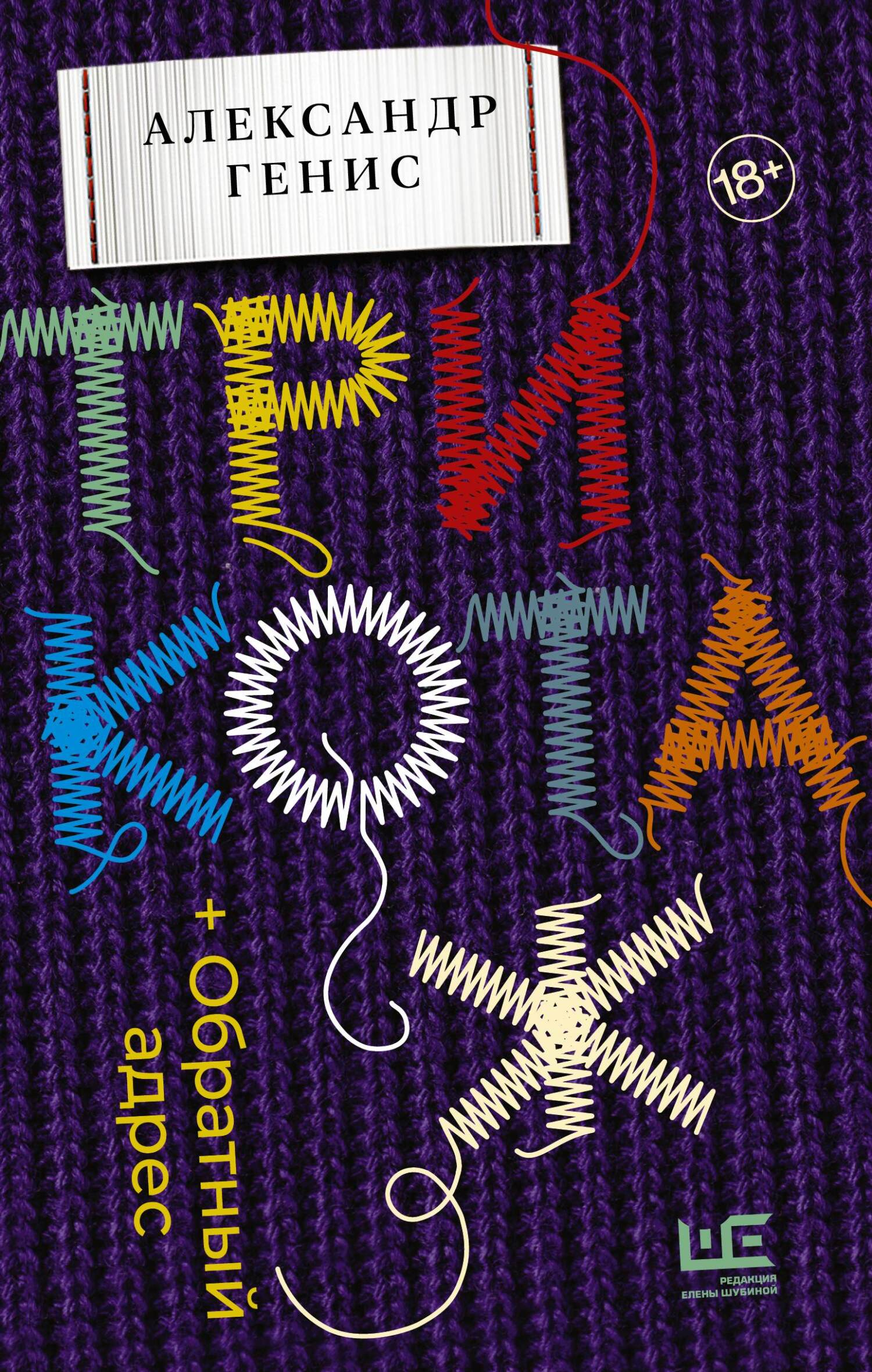по-настоящему расцвел, когда догадался включить в число украинских художников всех, кто навещал Крым, Одессу или Киев: и Малевича, и Шагала, и Архипенко, и весь остальной авангард. Помимо искусства, меня привлекала украинская колбаса. Свернувшись, как пожарный шланг, плотным кольцом, она щедро пахла и обещала застолье. Готовясь к нему, я однажды погрузил в багажник колбасный круг вместе с караваем черного и бутылью вошедшего тогда в моду “Абсолюта”. Когда, задержавшись дольше разумного в музее, я вышел на улицу, то обнаружил, что машину украли. У меня и сейчас сжимается сердце, когда я представляю, что сделали воры с колбасой. Не секрет, что простодушные (другие не воруют старые машины) американцы с подозрением относятся к чесноку и чужой кухне. Во всяком случае, когда месяц спустя машину вернули полицейские, в опустошенном багажнике валялась коробка из “Макдоналдса”.
Союз с украинцами не спас газету. С провинциальной стороны Гудзона Манхэттен выглядел Китежем. Заходившее в Нью-Джерси солнце отражалось в стеклянных небоскребах и топило город в почти балтийском янтаре. Не сумев покорить Нью-Йорк с наскока, мы решили взять измором, если не его, то себя. Вайль перестал платить за квартиру, я стеснялся смотреть на работящую жену, Рыскин съел лимон, Меттер обедал сахаром из украденных в кафе пакетиков.
От нищеты начались настоящие склоки. Мы обвиняли менеджмент, того же Меттера, в бездействии, он нас – всё в том же легкомыслии. Не в силах справиться с собой, Боря взялся за нас и приставил к Довлатову комиссара по серьезности. Им назначили солидного Поповского, которого в зависимости от его поведения мы звали то Марком, то Мраком Александровичем.
Поповский жил через дорогу от меня, и я часто заходил к нему за материалами.
– Мой отец, – в первую встречу сказал Марк Александрович, указывая на портрет бородатого мужчины, выглядевшего намного моложе самого Поповского.
– Не похож, – удивился я.
– Духовный отец, – пояснил он, – Александр Мень.
Как неофит, Поповский любил христианство яростно и сумел развалить единственную действующую организацию Третьей волны – Союз ветеранов. К нам с Вайлем он относился как к непородистым щенкам: снисходительно, – но на Довлатова смотрел с удивлением, вслух поражаясь, когда Сергей упоминал Фолкнера или Кафку. Как раз этим мне Поповский нравился: он говорил что думал не всегда, а только начальству. Стремясь избавить газету от всего, за что ее любили читатели, Марк Александрович пытался нас урезонить и заменить узниками совести.
Планерки стали шумнее, закуска перевелась, крах был неминуем, но я был безусловно счастлив, ибо делал лишь то, что любил, и каждый день говорил о главном.
3
Книги у Довлатова не задерживались. Любимые, вроде Достоевского, “Хозяина и работника” и, конечно, Фолкнера, он знал наизусть, с другими легко расставался, наделяя нас с Вайлем то Львом Халифом, то Сашей Соколовым. Меня его отношение к литературе удивляло до икоты, точно так же как его – мое, особенно когда я проболтался про мениппею.
– О, понимаю, – обрадовался Сергей, – прохладный сумрак библиотек, зеленая лампа, пыльные фолианты.
Этот “прохладный сумрак” навсегда лишил меня уважения к литературоведческим глупостям, и я рьяно учился обходиться без них у Довлатова. Я слушал Сергея, страдая от внутреннего протеста, ибо как каждый отличник филфака благоговел перед словом “поэтика”, мечтал открыть ее законы и применить их к какому-нибудь литературному телу.
К тому же мы были очень разными: я хотел знать все, Довлатов – все забыть, чтобы открыть заново. Не то чтобы Сергей презирал эрудицию – он ее терпел, пережидая, как чужие запои. Твердо уверенный в том, что ничего полезного вычитать нельзя, он публично обещал заняться чужой философией как только выработает свою. Пугаясь этого демонстративного невежества, я чувствовал довлатовскую правоту, но не смел разделить его взгляды. Возможно, потому что пил меньше.
Отметая школы и направления, Сергей интересовался не сходством разных авторов, а их неповторимыми отличиями. В его пересказе каждый выходил курьезом словесности. В книгах он ценил не замысел и сюжет, а черту портрета и тон диалога, не путь к финалу, а момент истины, не красоту, а точность, не вширь, не вглубь, а ненароком, по касательной, скрытно, как подножка, и непоправимо, как пощечина. Страдая от Лотмана и молодой запальчивости, я громко спорил и тихо мотал на ус, понимая, что правда там, где никто не был раньше.
Беседы с Довлатовым развивали не интеллект и не вкус, хотя и его тоже, а тактильное отношение к слову. Сергей ощупывал текст, замечая, где выпирает лишнее и зияет недостающее. Примерно то же я делал, когда работал метранпажем.
И всё же, если исключить мениппею, Довлатов поощрял наши опыты. Принципиально отказываясь отделять художественную литературу от любой другой, он считал критику равной словесности, вынуждая и нас к тому же. Кроме того, Сергей требовал, чтобы мы издали книгу, и не понимал, почему мы не торопимся. Сам он ждал своей первой книги слишком долго и не понимал, как можно откладывать это решающее событие в биографии автора.
– Писатель, – вещал Довлатов, – начинается со второй книги, ибо первую, даже хорошую, может написать всякий.
Когда Сергей нас убедил, мы, собрав и искромсав все написанное, принесли рукопись, чтобы ее набрала на домашнем компьютере жена Довлатова Лена. Чтобы передать ей книгу, мы с Сергеем встретились в “Макдоналдсе”. Отмечая принесенным бренди окончание труда, мы засиделись допоздна и расстались, довольные друг другом. Только утром обнаружилось, что портфеля с рукописью нашей первой книги не оказалось ни у одного из трех участников застолья. Как в инциденте с колбасой, я огорчился за вора, обнаружившего в новеньком, специально купленном для этого случая портфеле-дипломате стопку бумаги, испачканной непонятными буквами.
Книгу пришлось составить заново, от чего она не стала хуже, чем могла бы быть, если учесть унылое, навязанное издательством название “Современная русская проза”.
24. Клойстерс, или Мне тридцать лет
1
Сильнее всего в Нью-Йорке меня раздражала его незрелость. Ни молодой, ни старый, он, как весь Новый Свет, казался обделенным историей. Конечно, потому что я не удосужился ее выучить. С высокомерием рижанина, выросшего в ганзейском городе, я не умел ценить того, что есть, и жался к тому, что было, поселившись на северном краю Манхэттена, неподалеку от древнейшей достопримечательности Нью-Йорка. Ею считается пень того тюльпанового дерева, где голландский негоциант купил этот остров сокровищ у проходящих мимо индейцев.
– Сегодня историки подозревают, – объяснил мне экскурсовод, – что индейцы действительно проходили мимо и, оказавшись на этом острове случайно и впервые, охотно обменяли чужую недвижимость на красные лоскуты и синий бисер голландцев.
Так или иначе, возле пня можно до