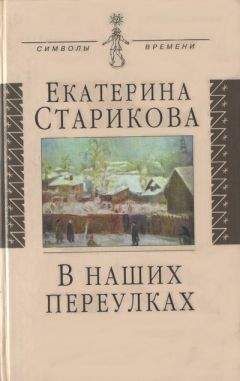Я, конечно, знала, что именно в этом доме, где располагалась керосиновая лавка, жил некогда Пушкин у своего друга Соболевского. Наша мать принадлежала к довольно распространенному в России отряду пушкинистов-дилетантов, следящих по мере возможности за открытиями пушкинистики и вечно обсуждавших с себе подобными отношения Александра Сергеевича и Наталии Николаевны. Я знала, но мне все-таки не верилось, что в таком убогом убежище мог когда-то обитать наш блистательный Пушкин.
Квартира № 3 отправилась на Собачью площадку с вечера, чтобы записаться в очередь на керосин. Трехзначный номер доброхоты обозначали химическим карандашом на ладони (через шесть десятилетий этот обычай в России снова возродится). Написали номер и на ладошке нашей трехлетней сестры Лёли. Кто-то из очереди попытался опротестовать права «младенцев» на такую честь. Но толпа загудела в справедливом гневе: «А ей что, каши не надо варить?» Право отстояли. В сумерках женщины и дети вернулись в Малый Каковинский. Мужчины остались дежурить на ночь. Папа и тут белозубо улыбался. Утром мы снова ринулись на Собачью площадку. Толпа была тысячная. Но наши мужчины твердо стояли где-то в середине. Мы присоединились к ним, протягивая очереди свои нарочно не мытые с вечера ладони. Несколько часов стояния под жарким солнцем, и вот мы уже на пороге любимой пещеры.
Сколько еще недавно в ней было разнообразных чудес: пестрое, сине-белое казанское мыло, стройные парафиновые свечи, голубой светящийся денатурат, который покупали для разжигания примусов в водочные четвертинки и который не продавали детям (и который, говорили, некоторые мужики пили, чтобы, мы верили, тут же погибнуть), стекла и фитили для керосиновых ламп, зелье под названием «каустик», пакетики с синькой и т. д. и т. п. Все здесь было опасно и загадочно как непосвященному в лаборатории алхимика. И сами продавцы этого грубого, пахучего, таинственного товара с черными масляными лицами и руками внушали нам трепет, словно черти из преисподней.
Теперь в лавке не было ничего, кроме вожделенного керосина. Все те же «черти» быстро черпали его из открытых баков литровыми и пол-литровыми ковшами на длинных ручках и ловко вливали через жестяные воронки в жадно протянутые бутылки, жбаны, бидоны. И нам, и нам тоже. И вот мы уже несем драгоценную добычу по Дурновскому. Мы с Алешей сами тащим свои бутылки, не поддаваясь никаким уговорам отдать их взрослым. Только бедная Лёля лишена такой привилегии. Но и она счастлива, как и все. Мы сделали такое полезное, такое необходимое дело! Мы сделали это все вместе! Что еще нужно детям? Только вместе, только заодно с дружными и любящими взрослыми.
8
Почему мне вспомнилась идиллическая керосиновая очередь, а не страшная для взрослых и наполнявшая непонятным ужасом меня «паспортизация»? Ведь кажется, она проходила тогда же? Или весной следующего, тридцать четвертого года? Повальный психоз страха охватил нашу квартиру задолго до выдачи паспортов. Все боялись, потому что никто не знал, чего именно надо бояться. Мама боялась своего дворянского происхождения, наша соседка Настасия Григорьевна — купеческого, «пролетарии» Грязновы (именно так их у нас и называли), постоянно и громко кичившиеся рабочим превосходством над «паразитами», опасались своего давнего разрыва с деревней. Не боялись только гепеушники Папивины (а, впрочем, кто их знает? Может, они боялись больше остальных? Но они-то умели не болтать). А когда наступил момент выдачи паспортов, неприятности оказались у нашего папы и у Сергея Владимировича Еремеева. У папы снова всплыло его партийное прошлое, прерванное им в Сибири в 18-м году. У Сергея Владимировича — его подрядно-строительная деятельность во время нэпа. Мрак грозящего бесправия длился несколько дней. Как все утряслось, не знаю. В конце концов паспорта были получены всеми, квартира ликовала. Я помню свое разочарование при виде вожделенных книжечек в руках у родителей. Из-за них, таких неинтересных, все эти волнения? Странно. Недаром педологи считали меня недоразвитой. Я не понимала ни прогрессивности создания колхозов, ни значения паспортизации. Подступило что-то унизительно-угрожающее и как-то минуло.
Забавно то, что в паспортах у наших родителей, были проставлены в качестве места их рождения названия сел в Смоленской и Владимирской губерниях. У мамы — Пеньково, у папы — Нижний Ландех. А то, что мама родилась в наследственном доме помещиков Краевских, а папа — в крестьянской избе, это обстоятельство ускользнуло от паспортизации. Устрашающая сеть советской унификации захватывала улов широко, но бестолково. Впрочем, всеобщий страх был важнее конкретного улова.
Вдруг сейчас подумалось: и папа, и Сергей Владимирович умерли от рака. Кто знает, когда в их телах переродились клетки, предопределившие обоим страшные смертные муки? Может быть, еще во время паспортизации? Впрочем, таких времен у этого поколения было достаточно. Вся их жизнь разместилась в этом времени.
Эпопея паспортизации своим настроением общей опасности слилась в моей памяти с атмосферой во времени обнаруженного бешенства у собаки Истоминых Джери. Тогда все жители квартиры должны были через день ездить в институт Пастера, чтобы делать прививки. Там все казалось мне страшным и унизительным: и разговоры о бешенстве, и картинки на стенах на ту же тему, а главное, стояние в длинной очереди с обнаженным животом, по которому одна сестра проводила помазком с йодом, другая, не глядя на тебя, вонзала в очередной живот иглу, а третья так же механически снова мазала живот йодом. Было и больно, и оскорбительно. Неужели тогда так распространилось бешенство?
В то же примерно время сломали заборы московских дворов. Следуя, вероятно, принципу коллективизма и равенства? Сначала и мы, жители Малого Каковинского переулка, радовались свободному доступу в сад под нашими окнами. До того вход в него был с Дурновского переулка и приходить туда можно было только к кому-нибудь в гости. Мы ходили к Истоминым. А тут вдруг рухнули все преграды, и, спустившись по черной лестнице прямо в узкую щель нашего двора, мы оказывались в саду. Но радость наша была недолгой. Открыв сад со всех сторон, сделав проходным, его обрекли на гибель. За один летний сезон были вытоптаны не только цветы, но и густые заросли глухой крапивы, лопухов, послена и всей той буйной зеленой массы, что грудилась на жирной земле вдоль высокого забора, представляя для городских детей заманчивые дебри. Теперь по выбитой земле носились толпы босых голодных мальчишек из всех дворов обширного квартала, образованного переулками Дурновским, Трубниковским, Рещиковым и нашим. Эти банды отчаянных маленьких хулиганов, крушащих остатки старого арбатского уюта, хорошо были видны из окон нашей комнаты: вооруженные рогатками мальчишки распространялись по всему вытоптанному пространству, как саранча. Говорили, что из рогаток они убивают голубей, а матери варят из них вкусный суп. Правда то была или нет, но голубей в Москве почти не осталось.