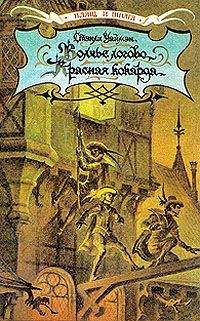Но шофер погасил фары, и немцы больше не стреляли. Через минуту ему стало скучно и жутко одному.
— Эй, ребята, — крикнул он, — ходи сюда, покурим!
— Стало быть, так, — ответил ему из темноты веселый солдатский голос, — сопрел один-то, парень.
Нилов с адъютантом в это время подходили к замаскированному блиндажику наблюдательного пункта на гребне холма.
От куста, где фыркала лошадь, отделилась темная высокая фигура и грубо крикнула:
— По тропе иди, дьявол! Не порти снег.
Не обращая внимания на окрик, генерал шел прямо по снегу к черневшей бревенчатым тылом землянке. Фигура сунулась вперед, всмотрелась и, вытянувшись, замерла, держа в правой руке повод мотавшей головой лошади.
В тесную каморку наблюдательного пункта зашел один Нилов и сейчас же вышел с двумя офицерами: командиром полка и его адъютантом.
Генерал и полковник взошли на самый гребень.
Адъютант комкора мотнулся за ними, но адъютант командира полка ласково удержал его за руку.
— Не стоит ходить, поручик. Артиллеристы просят не обнаруживать пункта. У немцев сильные прожекторы.
А перед глазами поднимавшегося на возвышенность Нилова вправо и влево развертывалось то, что было частью фронта его корпуса.
В глубокой лощине, на дне которой протекала безымянная речонка, теперь замерзшая, — иссиня-черная, клубилась снежная мгла ночи, и едва вырисовывались, белея мутно, противоположные, немецкие, склоны увалистых холмов.
Из черной глубины оврага, почти в полуверсте от наблюдательного пункта, медленно и беззвучно поднимались электрически-голубые шарики немецких ракет, высоко взлетали, останавливались в воздухе и здесь, разгораясь до нестерпимого блеска, медленно гасли, осветив на несколько секунд черные полосы своих, немецких, и наших окопов.
Эти шарики-ракеты появлялись и вправо и влево, вычерчивая длинную изогнутую линию фронта.
Ни единый выстрел не нарушил тишины ночи.
— Где участок 6-й роты? — спросил Нилов у командира полка.
— В ста саженях от нас, ваше превосходительство, — круглым и спокойным баритоном ответил командир, сгибая в полупоклоне стройную фигуру в романовском полушубке. — Видите, чуть чернеет дерево. Сейчас же за ним.
— Готовы?
— Так точно. Резервная рота уже заняла окоп (он посмотрел на светящийся циферблат часов), через пятнадцать минут начнут.
Нилов молчал, посапывая носом. Сзади вполголоса переговаривались адъютанты.
XI
— Пора! — со вздохом сказал Ярыгин, вставая. — Перед смертью не надышишься. Ну, полковник, будьте здоровы. Не поминайте лихом.
— Дай я тебя перекрещу! — по-старчески всхлипнул Звягин, снимая папаху и целуя ротного. — Ну, иди. Бог милостив!
В землянке уже никого не было, кроме них и денщика Ярыгина, хохла Скопиченко.
— Прощай, Василий, не сердись, ежели чего!
Солдат, румяный и круглощекий, глазами, пристальными от страха и жалости, безмолвно глянул на офицера.
— Иди в тыл, — приказал Ярыгин, — если убьют, отправь письма.
И, махнув рукой, метнулся к лестнице из землянки.
В окопах, рассчитанных на одну роту, стало тесно. Люди 6-й роты, уже в белых «саванах» поверх шинелей, топтались в ходах сообщения, выстраиваясь повзводно.
Одиннадцатая заняла окопы.
Ярыгин обошел взводы, расталкивая чужих солдат, не знавших его и не дававших дорогу его белому, скрывшему его офицерское снаряжение халату.
XII
Нервного позевывания как не бывало. Необходимость действовать успокаивала.
Два года тому назад Ярыгин мечтал (у него был приятный тенор) о карьере певца. Кадровый офицер, он в то же время учился и в консерватории, думая скоро бросить военную службу.
Но началась война, и она-то и обнаружила в (тогда) подпоручике Ярыгине умную храбрость, открывшую ему путь к незаурядным военным успехам.
Его знали не только свои, своя армия, но и немцы, оценившие, как упорно говорили в полку, его голову в пятьдесят тысяч марок: уж слишком он донимал их дерзкими наскоками, командуя полковыми разведчиками.
Про Ярыгина в полку говорили, что он умно храбр. Храбрость Ярыгина не была храбростью подпрапорщиков, «тянувшихся» на офицерский чин, или «геройством» (насмешливое слово в полку) подвыпившего прапорщика Жмота, готового очертя голову броситься на противника.
Зевая в блиндаже Ярыгин, потому что всё, что мог он сделать для удачи вылазки, он уже сделал, и в бездельи тоску, тошнотой подступавшую к горлу, одолеть было нечем.
А сделал Ярыгин вот что.
Он обошел землянки взвода, постарался отобрать «калечь»[20] и тех, кто был окончательно измучен страхом.
Ярыгин никого не обманывал.
Он сказал:
— Ребята, дело наше паршивое, трудное дело, но не выполнить его нельзя… Но стариков, у которых дети и прочая мура, пожалеть стоит. И должны пожалеть их вы сами.
— Мы-то что, ваше высокоблагородие! — загудели в землянке. — Что мы можем, если и вы сами тут ничего не поделаете.
— Стой! — крикнул Ярыгин. — Сейчас узнаете, только смотри, меня не выдавать!
— Не выдадим. Штык тому, кто слово скажет!
— Так слушайте. Первое — дневальные, рабочие на кухне, обозные и другие. Сколько их всего, фельдфебель?
— Двенадцать человек, ваше высокоблагородие!
— Этих людей сами выбирайте, бородачей туда, семейных! Теперь другое. Как нам успешно вылазку сделать? Ну-ка, ты? — ткнул Ярыгин пальцем первого попавшегося солдата. — Подумай-ка!
— Не могу знать, — вздохнув, ответил солдат. — Рази шапку-невидимку достать.
И в первый раз за сутки в землянке засмеялись.
— Не смейтесь, ребята! — остановил Ярыгин солдат. — Он правду говорит. Чтобы невидно и неслышно подойти к немецкой проволоке — только в том и спасение наше. А чтобы идти так, должен солдат идти со мной своей охотой… Ну вот, нужно мне таких восемьдесят человек, а вас в роте сто восемьдесят. Сто пусть за проволоку выйдут и в снег залягут, а я с восемью Десятками ударю. Только чтоб начальству ни слова!
Ярыгин вдруг громко крикнул:
— Ну, кто со мной?
— Я! — выскочил из гула почти детский голос новобранца Семина.
— Я! — твердо отрубил всегда хмурый бондарь Лохмачев. — Дело мертвое, ваше высокоблагородие, да за семейных хочу пострадать.
После этого Ярыгин вернулся в землянку спокойный.
— Господин капитан! — остановил Ярыгина командир 11-й роты. — Два слова…
И он сообщил ему о секретном приказе открыть огонь по своим.