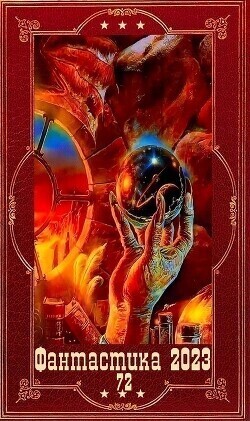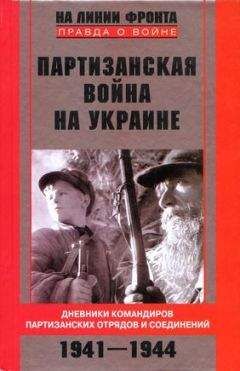у них в плену, – подумал я, – и какой-то там у них вид?!»
Пленные работали под присмотром нашего солдата, молодого, видимо, деревенского парня. Грустно как-то все это.
Послезавтра воскресенье. После смены с дежурства я имею право на увольнение в город. Я знаю: сегодня Клавдия тоже дежурит. Телефон дежурного по батальону в моем распоряжении. На завод дозвонился без особого труда. В воскресенье должен идти скрибовский «Стакан воды». И я предлагаю ей посещение театра – она отвечает согласием. А я, положив телефонную трубку, еще долго-долго слышу ее мягкий голос, сказавший «хорошо».
22 августа. Воскресенье. Дневные спектакли начинаются здесь в 12 часов. Так что сразу после завтрака я тщательно выбрился, вычистил сапоги, подшил свежий подворотничок. Это было все, чем я мог облагородить свой туалет. В 10 часов я уже был за проходной.
От Мстинского моста навстречу мне шла улыбающаяся Клавдия. Со школьных лет любил я скрибовский «Стакан воды» и многократно смотрел его на сцене Малого театра. Настроение какое-то особенно радостное и от того, что на сцене превосходно играют актеры, и от того, что сама пьеса изысканно остроумна, и от того, что рядом со мною красивая, обаятельная, изящная и молодая женщина. Отношения у нас складываются самые непринужденные. После театра мы гуляем по городу. Я чувствую, она рада нашему знакомству. Держится она со мною ровно, откровенно – меж нами нет даже и намека на флирт или пошлое ухаживание, что по тем временам считалось особым шиком среди офицеров боровического гарнизона.
Я провожаю ее до дома. Идем медленно, неторопливо. Разговор заходит об опере и оперных певцах.
– Я твоего дядю не слышала, а вот кузину твою не раз передавали по радио. Хороший голос, звучный.
Разговор вновь переключился на обсуждение утреннего спектакля, а Клавдия слушала, улыбалась и думала о чем-то своем, не замечая меня.
– Тебя что-то угнетает? – спросил я ее.
– Нет, нет, – ответила она, – просто завтра рано вставать на работу.
В казарму вернулся я в первом часу. Но в проходной дежурят наши же слушатели, и увольнительные, естественно, отмечаются стандартно – 24.00, когда бы кто ни пришел.
Растянувшись на койке, я думал о встрече с женщиной, которая, я это чувствовал, очаровывала и захватывала меня все сильнее и сильнее.
25 августа. Полковник Арзуманов, вызвав меня к себе в кабинет, спросил, чем я могу помочь в деле оформления классов наглядными пособиями, которых нет, но которые необходимо изготовить.
– Изготовление наглядных пособий само по себе несложно, – ответил я, – но для этого нужны материалы и помощники.
– Назначаю вас старшим, – сказал Арзуманов, – подберите нужных людей и напишите рапорт об откомандировании вас в Москву за необходимыми материалами.
У меня перехватило дух. Впечатление – будто куда-то низвергаюсь.
– Вы поняли меня? – откуда-то издалека вдруг услышал я скрипучий голос Арзуманова.
– Так точно, понял, – ответил я, овладев собою.
– Вот здесь садитесь и пишите.
Присев с краю письменного стола, я написал рапорт на имя начальника академических курсов генерал-майора А.В. Сухомлина.
О боже, думал я, что-то будет?! Утвердят, не утвердят?! Исчез аппетит. Ночь не сплю, ворочаюсь с боку на бок. Скорее бы все выяснилось: пусть срывается поездка в Москву – только не эта пытка!
31 августа. Через дежурного мне вернули мой рапорт с отрицательной резолюцией. Как ни странно, отказ успокоил меня. Рухнули надежды, зато наступило прочное настоящее. И я написал матери, что поездка сорвалась и чтобы они меня не ждали.
1 сентября. После завтрака меня вызвали к начальнику штаба академических курсов полковнику Ходакевичу, который тут же сообщил мне о том, что я командирован в Москву и что мне надлежит немедленно собираться и срочно оформлять документы.
Я в полной растерянности – утихшие было страсти и волнения всколыхнули меня с новой, невиданной силой, выворачивая душу наизнанку.
2 сентября. Я еду с поездом 14.00. Провожает меня Клавдия и на вопрос, что ей привезти в подарок, ответила:
– Если сможешь, то дамскую сумочку.
– Привезу, – убежденно сказал я. И был уверен, что привез бы этой женщине все, чего бы она только ни пожелала.
Через два часа, на станции Угловка, я пересел на поезд, уходящий по направлению к Москве.
3 сентября. В восемь часов утра с какими-то минутами я прибыл в Москву, на Ленинградский вокзал. Ничто здесь не изменилось с прежних, довоенных времен – все как было, даже забор тот же. Учащенно бьется сердце, стучит в висках. При спуске в метро проверка документов. На мне мятое хлопчатобумажное обмундирование со следами смердынских болот, пилотка, кирзовые сапоги, на руке перекинута шинель, за спиной – солдатский вещевой мешок. Какой-то убогий мужичишка предлагает донести мне мои вещи, пугая тем, что в Москве теперь офицерам не положено самим носить мешки.
– На, – говорю, – неси! Тебе нужно заработать на этом кусок хлеба. Пусть будет так. Я не против.
Вот и выход из метро «Охотный ряд». Мужичишка бежит за мною с моей шинелью и вещевым мешком. Утро великолепное – сентябрьское солнце ласковое и нежаркое. Воздух наполнен осенней свежестью, дышится легко, и меня распирает счастьем. Вот и Газетный. Вот и дом номер три. Вот и облупленная подворотня, а там еще другая подворотня и садик. В садике бабы, увидев меня, зашушукались, заспорили. Ясно: решают, кто я и к кому. Вхожу в обшарпанный подъезд – тут на повороте должно не хватать у перил деревяшки. Так и есть – пустое место, щербатое, с голым металлическим основанием. Останавливаюсь. Нужно передохнуть. Даю мужичишке полбуханки хлеба и говорю, чтобы уходил. Передохнув, поднимаюсь до четвертого этажа. Стою. Вот она – квартира с номером 64 и бронзовая вычищенная пластинка: «ЮДИНЪ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧЕ». Минуту или две не решаюсь нажать кнопку. Меня не ждут. Наконец звоню долго и протяжно.
Дверь открывает мать и остановившимся взглядом смотрит на меня. Очевидно, не в состоянии понять, кто перед нею. Потом заморгала, сморщилась и залилась истерическими слезами. Выбежала тетя Лида – ее старшая сестра. Дядя Сережа. Они обнимают меня, плачут и смеются. Бросив в прихожей шинель и вещмешок, я иду в комнаты. Из своей спальни вышла Таня – моя двоюродная сестра. Она в ночной рубашке, закутанная в одеяло. Пододеяльник весь в заплатках – война, и у солистки оперного театра все латаное, даже пододеяльник.
– Ты же писал, что не приедешь, – говорит, целуя меня, Таня.
– А я вот взял и приехал.
Мать и тетка, перебивая друг друга, что-то говорят.
– Я знала, что Андрюшка приедет, – перебивая всех, звонким голосом кричит Таня, – он настырный. Молодец – как снег на