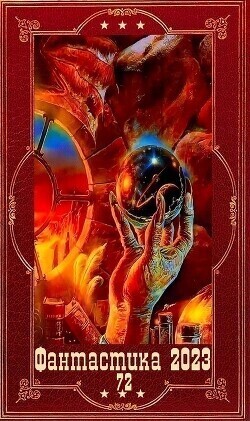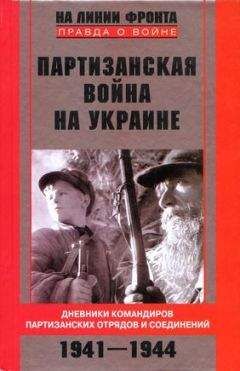голову.
– Ну и что же ты делал на фронте?! Неужели стрелял?!
– Нет, правда?!
– А немцев-то живых видел? – спрашивает дядя Сережа. – И не врешь? Ты ведь и приврать мастер.
Тетка с матерью суетятся, готовят кофе, накрывают на стол. Я распаковываю свой сидор, достаю все, что получил по аттестату. Мать осматривает мое обмундирование:
– Гимнастерку нужно выстирать и вывернуть, а шинель ушить и уладить.
Я не возражаю. Уладить так уладить. Пусть будет так.
После завтрака, надев серую школьную куртку на молнии, мальчишеские брюки и дядины ботинки, я отправился в «Военторг» на Воздвиженке. В дверях проверка документов. Предъявляю офицерское удостоверение и прохожу внутрь. Меня даже не спросили, почему я не в форме.
В отделе канцелярских товаров торгуют и карандашами, и линейками, и бумагой. Кроме того, у меня дома сохранились запасы мирного времени. Так что командировку уже можно считать оправданной. В отделе, где торгуют знаками различия, отоварился погонами – гарусными и полевыми, звездочками и эмблемами артиллерии – скрещенные шуваловские пушки.
За это время мать успела выстирать гимнастерку и распороть шинель. Вместе с теткой они прямо на мне уладили ее в боковых складках.
После обеда ходил в город за покупками. Стоял в какой-то очереди и услышал в свой адрес реплику: «Во гад, ряшку какую отрастил – решетом не укроешь. Его, бугая, на фронт бы отправить, а он тут по очередям ошивается». Дома все от души смеялись над этим случаем.
4 сентября. Поехал в свой родной Протопоповский переулок. Дома, в котором родился, вырос и жил до войны, уже нет. На его месте голый пустырь и остатки фундамента. По соседству зашел к родственникам моего отца, к моей двоюродной тетке Елизавете Сергеевне.
– Скажи, а сколько ты убил немцев? – допытывается ее сын и мой троюродный брат Мишка, которому идет пятнадцатый год.
Как ответить ему? Рассказать о «манлихере» с оптическим прицелом?! И я ответил:
– Ни одного.
– У-у-у… – презрительно скривив губы, проскрипел Мишка. – А я-то думал. Во! Если бы мне досталось. Я бы их – пах-пах. Руби. Коли. – И, схватив металлическую линейку, Мишка стал размахивать ею, воображая себя, очевидно, лихим кавалеристом.
– Теперь, брат, так не воюют, – сказал я ему, – сабельками не размахивают. Теперь преимущество за техникой. Орудия ведут огонь с закрытых позиций. А тут математика нужна – синусы и косинусы.
– У него, у дурака, по математике сплошные двойки, – вмешалась в разговор его мать – тетка Лизавета.
– А я не в артиллеристы, я в летчики пойду, – горячился Мишка.
– В летчики, – засмеялся его отец, генерал службы тяги Федор Яковлевич Максимов. Близкий к Кагановичу человек, приехавший домой к обеду, а затем уезжавший на всю ночь в наркомат. – Там, брат, технику нужно осваивать, а она вся на математике основана.
Не уютно мне показалось вдруг в родном Протопоповском. Грустно было смотреть на пустырь, где стоял когда-то мой дом. Простившись с родственниками, я постарался поскорее уйти, чтобы не травить напрасно себя излишней тоской и воспоминаниями.
6 сентября. Утром, пока я еще спал, мать внесла в комнату готовую гимнастерку. Воротник украшал красный артиллерийский кант, на который пустили остатки алого сукна от моей детской шапочки-матроски. Готова была и шинель – мать шила всю ночь напролет. На воротнике черные петлицы с золотыми пуговицами, на плечах гарусные артиллерийские погоны. Одну из споротых петлиц, тех, что получали мы в Смердынском мешке, мать сохранила на память. Что же, обмундирование мое хоть и не богатое, но чистое, опрятное и подогнанное по фигуре. Я доволен.
В фотоателье на Кузнецком я снялся на размер 6x4 в трех вариантах. Крупнее размеров тогда не делали.
На одном из столиков юдинской квартиры я заметил деревянного рыцаря в жестяных доспехах. Эту куклу я мастерил в ночь перед тем, как был призван в армию – на латах выцарапана дата: «20 мая 1942 года» – дата получения мною призывной повестки.
7 сентября. Вечером на концерте в Консерватории. Разговоры только на тему избрания Патриарха всея Руси и о том, что сам Козловский пел в церковном хоре в храме Воскресения в Сокольниках.
8 сентября. С утра в квартире Юдиных все идет по особо установленному режиму: вечером Таня должна петь партию Джильды в своем театре. Я очень люблю эту оперу Верди и слушал «Риголетто» в различном исполнении много раз. Но в этот день мое посещение театра оказалось под угрозой и могло не состояться вообще.
В середине дня я проходил мимо кинотеатра «Метрополь». Место людное, сутолочное и злачное – рядом ресторан, гостиница, магазины. Пробираясь сквозь толпу, я не заметил проходившего мимо офицера и обратил на него внимание лишь тогда, когда он меня окликнул. Передо мною стоял холеный, великолепно одетый капитан войск связи: модная фуражка с маленьким козырьком, хромовые сапоги и, несмотря на жару, лайковые перчатки на руках.
– Почему не приветствуете старшего по званию? – Сам тон обращения настолько надменный, что мною тотчас овладел приступ дикой ярости. Я стоял, кусая губы, и молча смотрел на капитана. В сознании моем невольно всплывали образы тех, с кем сроднила меня война, кто был мне дорог и кто теперь здесь как бы становился в один ряд со мною. Ненависть душила меня, и я чувствовал, как задыхаюсь. Стиснув кулаки, я стоял, глядя капитану в глаза, готовый врезать по этой холеной, надменной роже. Он понял, что дальше испытывать мое терпение рискованно, и вызвал патруль.
Меня доставили в военную комендатуру на Первой Мещанской. Там, в бывшем институте слепых, собралось таких, как я, человек двадцать. Дежурный майор просмотрел наши документы и, как мне показалось, тоскливо и даже сочувственно оглядел нас. Затем стал каждого вызывать к столу, стоявшему у входа в помещение.
– Ты что же это, лейтенант, – обратился он ко мне, – неужели тебе трудно было приложить руку к пилотке?
– Не заметил я его.
– Верю, – произнес он с какой-то особенной мягкостью, – только тут Москва. Не Тихвин, не Боровичи. Тут ухо востро держи. Когда едешь-то? Завтра?
– У меня сегодня в театре сестра поет, – сказал я совсем тихо, – я ее послушать хотел.
– Сестра, говоришь. В театре? – Майор удивленно посмотрел на меня. – Во дела-то какие. Капитан, – крикнул он, обращаясь к начальнику офицерского патруля, – погоняй их строевой да отпусти!
– Становись! – лениво гаркнул капитан.
Задержанные офицеры, в том числе и я, разобрались и построились во взводное каре.
– Равняйсь! – скомандовал капитан, – строевым, шагамарш! Левой… левой. Стой! Разойдись!
Не оглядываясь, я вышел за ворота комендатуры. По Мещанской шел какой-то полковник. Лихо козырнув ему, я скользнул в Адрианонаталиевский