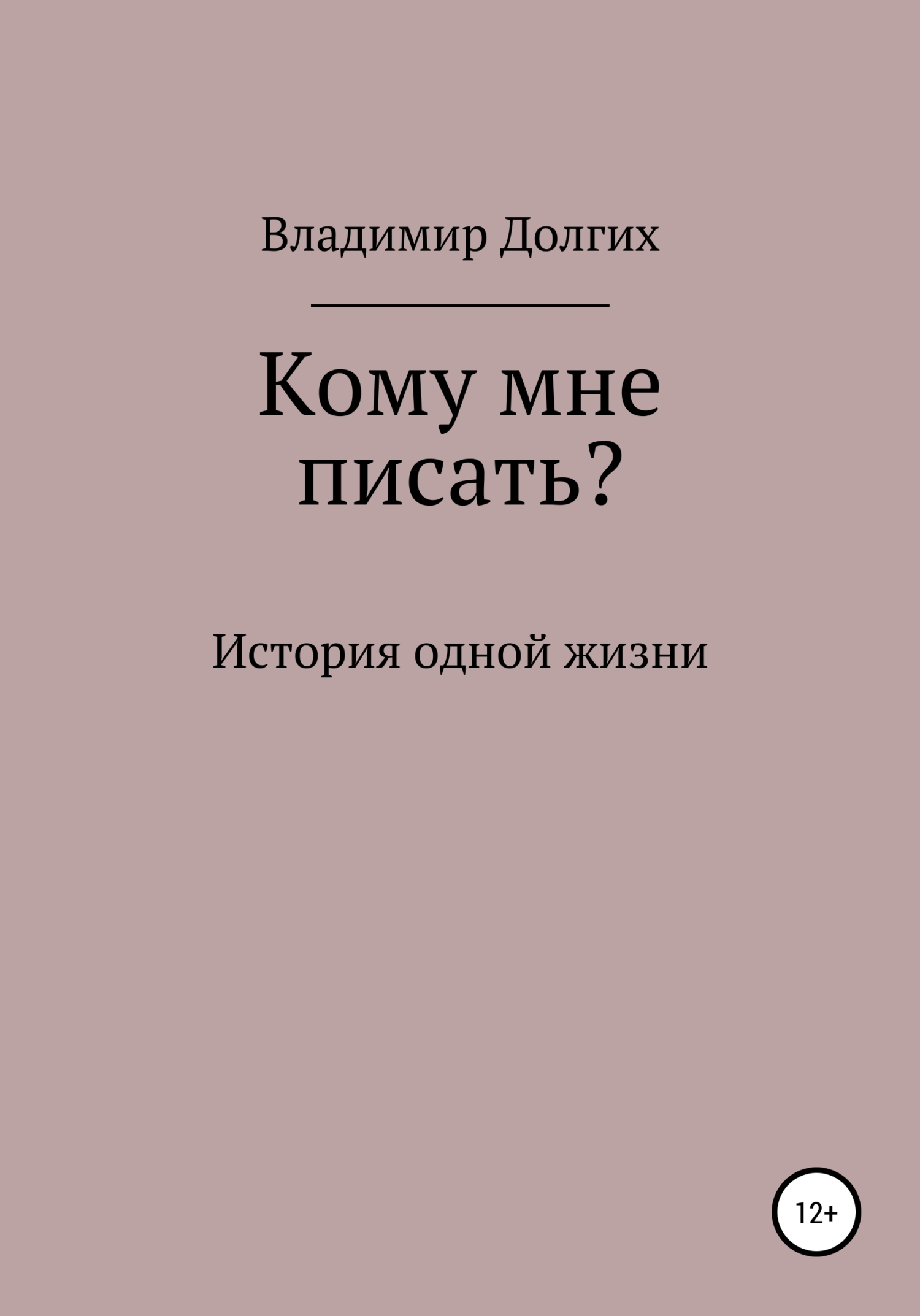костюм, перешитый из пальто – его мне одолжила сестра на отцовские похороны. Чулки я не надевала, поэтому, ожидая автобус на ледяном ветру Ист-Бродвея, мечтала о спасительной защите комбинезона или бриджей для верховой езды.
Вещей для настоящей жизни у меня было маловато, но с добавлением экстравагантного гардероба Мюриэл мы получили довольно приличный набор нарядов, подобающих молодым лесбиянкам. Я в основном носила синие или черные рабочие штаны, которые все чаще стали называть джинсами. Обожала бриджи наездницы, которые мне подарила Мюриэл, и они стали моей любимой одеждой – моей униформой вместе с хлопковой рубашкой, обычно полосатой.
Мюриэл зимой надевала свои брюки азартного игрока, а в теплую погоду предпочитала шорты-бермуды и гольфы, обычно черные. Зимний шик предполагал синие водолазки из военторга, и мы их обычно носили до поздней весны, когда отправлялись туда, где работает кондиционер. Мне нравились ощущение надежной темно-синей шерсти на коже и свобода повседневной одежды. К тому же всегда было приятно, что в этих свитерах моя грудь казалась меньше.
Помимо военторговских магазинов, которые стали для нас настоящей страстью, мы в основном покупали всё в лавке «Сделка Джона». Каждая из нас считала нравственным жить одновременно бедно и хорошо, и это требовало стараний и изобретательности, а также зоркого глаза, способного приметить выгодные предложения. Когда у Джона ничего не находилось, воскресным утром мы всегда могли отправиться по магазинчикам на Ривингтон и Орчард. В переулках около общественного рынка на Эссекс торговали своей продукцией мужчины в ермолках. Кроссовки с распродажи по два доллара без двух центов или однотонные свитшоты по девяносто девять центов – вот какими находками стоило хвастаться.
Мы вместе переизобретали мир. Мюриэл открыла мне массу новых возможностей, сравнимых с наследием Евдоры, с ее печальными и смешливыми глазами и спокойным смехом. Я научилась у Евдоры вести дела, гордиться тем, что я лесбиянка, любить и выживать, будто рассказываешь историю, да еще и талантливо. С Мюриэл же мы усваивали всё вместе, будто готовя на пару уроки.
Думая о времени с Мюриэл, я вспоминаю наши взаимные уверения, ощущение общего укрытия от шторма и чудо, которое отчасти порождала магия, а отчасти – тяжкий труд. Я всегда чувствовала, что это утро, эта жизнь могут длиться вечность. Я помню изгиб пальца Мюриэл, ее глубокие глаза и запах маслянистой кожи. Запах базилика. Я помню открытость того, как мы любили, – по этой мерке я потом сверяла каждую новую историю, которая звалась любовью; с годами я стала считать эту открытость справедливейшим взаимным требованием между любящими.
Мы с Мюриэл любили друг друга нежно, долго и хорошо, но некому было нам сказать, что стоит направить этот пыл и еще на какие-нибудь полезные дела.
Каждая из нас так изголодалась по любви, что мы хотели верить: когда ее найдешь, она всесильна. Мы хотели верить, что она сможет урезонить мою зарождающуюся боль и ярость; поможет Мюриэл выйти в мир и найти работу; что она сделает свободными наши тексты, излечит расизм, прикончит гомофобию и подростковые прыщи. Так оголодавшие женщины верят, что еда утолит всю боль и залечит давние душевные раны.
Тем золотым летом 1955-го мы были очень заняты и полны света. В будни я работала в библиотеке, а Мюриэл собирала кровати на другом конце города для «Мика и Корделии». По выходным мы писали, читали, изучали китайскую каллиграфию и отдыхали на пляже и в барах.
Джонас Солк представил свою новую вакцину от полиомиелита во время выпускной церемонии моей сестры Хелен в Сити-колледже, и, так как многие из моих подруг по старшей школе Хантер пострадали от этой болезни, новость много значила для меня лично.
В жизни столько всего происходило. Я одолжила «Джет» – девчачий журнал, который пытался стать Черным общественно-политическим еженедельником, – у сестриного мужа Генри в один из своих нечастых визитов в Бронкс и проглотила его за долгую поездку на юг Манхэттена, а потом под шумок оставила на соседнем сиденье, когда доехала до своей станции. Стоило мне заговорить в библиотеке о том, что я пишу стихи, кто-нибудь каждый раз поминал «Подарок моря» Энн Морроу Линдберг, главный бестселлер того года. На мою работу эта книга была похожа как морской гребешок на кита. Воодушевленная поддержкой Мюриэл, я отослала несколько своих стихотворений в «Лестницу», журнал для лесбиянок, который выпускали «Дочери Билитис». Стихи быстро и без объяснений вернули назад, и это меня сломало.
Мы много читали: помимо взятого из библиотеки, покупали и продавали книги в букинистических лавках на Четвертой авеню. Мюриэл также проводила там много времени: в «Стрэнде» можно было приобрести старые томики Байрона и Гертруды Стайн, а через неделю с небольшим убытком сдать их в «Пайн» чуть дальше по улице. Книг тогда было не слишком много; я помню, как обменяла подаренный на день рождения томик Линдберг на несколько подержанных книг в мягких обложках, два тома малоизвестных поэтов в твердых переплетах и первый номер журнала «Мэд», что стоил десять центов.
В июне с нами стала жить Линн. Мы этого не планировали, но так уж получилось. Мы с Мюриэл снова, хотя и осторожно, начали общаться с Беа, а Линн была ее бывшей возлюбленной, с которой мы впервые встретились в тот нашумевший Новый год.
Было начало лета, когда воскресным вечером она приехала к нам из Филадельфии. Длинные струистые светлые волосы, короткая крепкая шея, на плече – битком набитая спортивная сумка. Измятая военная форма обтягивает объемистые бедра. У Линн была лукавая улыбка, а когда она смеялась, всё ее лицо морщилось. Широкая, коренастая, очень сексуальная – и совершенно разобранная эмоционально. Такого же возраста, как и я, двадцати одного года от роду, но с ужасно сумбурной жизнью.
Ее молодой муж погиб три месяца назад: приехал на побывку из армии и вместе с Линн попал в аварию. Ее выбросило из грузовика, а он сгорел. В тот момент они как раз перевозили вещи в Филадельфию, к ее новой возлюбленной.
Линн свалилась на голову нам, потому ей больше некуда было податься. Они с Беа расстались по слишком хорошо известным мне причинам, и Линн решила отправиться за лесбийской тусовкой в Нью-Йорк. Ее трясло от декседрина, она сходила с ума от нервного истощения и боялась заснуть из-за кошмаров о смерти, потерях и пламени аварии, после которых на нее лавиной обрушивалась вина за смерть Ральфа.
Не знаю, кто бы остался равнодушен к трагической истории этой искалеченной девочки-женщины. Нам выдался случай воплотить на практике то самое сестринство, о котором мы столько