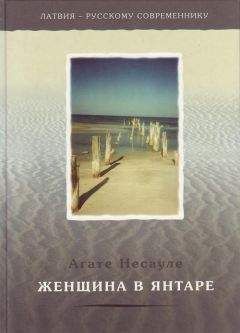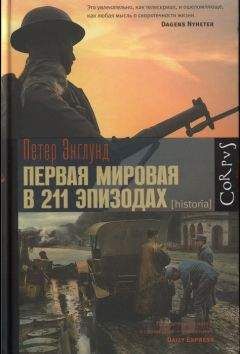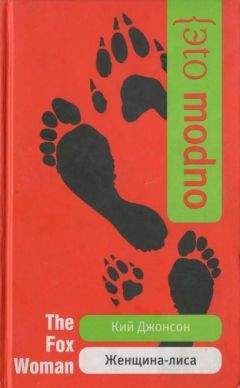— Но эссе великолепное. По-моему, ей следовало об этом написать. Эти повторы… то же оружие… то, что ужасы войны касаются и следующих поколений, которым не пришлось воевать. Я тоже начала об этом думать.
— Странно, что говоришь об этом ты. Что же ты задаешь им, раз они позволяют себе такие странные вещи?
— Ничуть не странные это вещи. У нас были занятия по теме: современный американский роман, студенты читали «Бойню номер 5», «Раскрашенную птицу», мы говорили о последствиях войны, и вот…
— Ну, и какие еще романы ты им советуешь читать?
Разговор становится поверхностным, мы обсуждаем перечень рекомендуемой литературы, обмениваемся вежливыми фразами. У меня в голове все время звучат строки ирландской народной песни, метафоричные, неотвязные, они напоминают мне о Вьетнаме:
Нет рук у тебя, нет ног у тебя,
Лежишь ты в тарелке у бедняка,
Никто не узнает наверняка
Тебя, Джонни…
Я стараюсь не слышать этих строчек, стараюсь вслушиваться в то, что говорит мама, хотя испытываю разочарование — опять не могу говорить с ней о том, что мне кажется без преувеличения важным. Мне хочется рассказать ей, что я опасаюсь, как бы мои собственные несчастья не сказались на Борисе, что сейчас страшно сожалею, что пошла на поводу у Джо и не учила сына латышскому языку. Но мы с мамой хотя бы разговариваем.
— Как тебе здесь нравится? — спрашивает папа. Я и не заметила, как он вышел подышать свежим воздухом.
— Очень, — отвечаю я. Это правда. Надежда, что мне наконец-то удастся восстановить былую связь с мамой, и именно сейчас, когда мы здесь, не беспочвенна. К тому же мы беседуем дольше обычного.
— Очень приятный праздник, — говорю я, и родители соглашаются.
— Мистер Берзиньш — очаровательный старый господин, — продолжаю я.
— Этот старик настоящая сволочь, — чеканит мама.
Я замираю, поворачиваюсь к ней, думая, что ослышалась. Маму надо довести до крайности, чтобы она позволила себе такое, но еще больше меня удивляет отец — он, который всегда обо всех говорит только хорошее, не возражает.
— Но мистер Берзиньш такой любезный, такой внимательный. Его так тронули поздравления и подарки, — мне не хочется нарушать свое ностальгически умиротворенное состояние, но я понимаю, что спасти уже ничего не удастся.
— Это все напоказ, — говорит мама.
— Он человек жестокий, — подтверждает папа. — Вот уже тридцать лет он казнит жену за поступок, в котором повинна война.
Берзиньши в Индианаполис переехали из Бостона, никогда раньше я с ними не встречалась. Миссис Берзиня, хрупкая стеснительная женщина, вся в черном, лет на двадцать моложе своего мужа. Она незаметно принимала розы, ставила их в воду, умело расставляла хрустальные вазы на буфетах и столах. Незаметно помогала мужу взять еду. С сосредоточенно-внимательным видом все время что-то делала и не участвовала в общих разговорах.
— Что значит казнит? — недоверчиво спрашиваю я.
— Ругает на каждом шагу. Проклинает, может ударить, угрожает ей. Обвиняет в том, что по ее вине их семнадцатилетняя дочь осталась в Латвии, — говорит мама.
В последнее их лето в Латвии Зайга работала на текстильной фабрике, ей нравилось в городе, она была счастлива, что школа и тяжелый сельский труд остались в прошлом. Девушка была в отчаянии, когда родители решили покинуть Латвию, она была влюблена. Она хотела еще раз, в самый последний раз встретиться с парнем, которого любила. Когда они гуляли по парку, он бережно поддерживал ее за локоть, чтобы она не споткнулась. И хотя в его помощи она не нуждалась, ее это приводило в восторг. Она-то прыгала через забор и через канаву лучше, чем братья. Ей казалось, что парень хочет ей о чем-то сказать. И ей обязательно надо было с ним встретиться, чтобы договорить все, что осталось недосказанным, даже если бы для этого пришлось уйти далеко от берега моря.
Когда мать возразила, Зайга уговорила ее сказать отцу, что пошла за получкой и за теплыми свитерами и чулками, которые управляющий обещал дать, чтобы зимой им в Германии не так мерзнуть. Мать, помнившая еще свою молодость, не стала настаивать.
Зайга не вернулась. Родители и братья ждали, но пушки уже грохотали неумолчно, и они отправились на побережье. Они расспрашивали каждого, кто их догонял, не видел ли кто Зайгу, но она так и не появилась.
— Ты не должна была ее отпускать, — упрекал мистер Берзиньш жену. — Твоя жадность — за пару чулок и горсть мелочи — толкнула дочь в руки коммунистов.
Подавленная горем, чувствуя свою вину, миссис Берзиня промолчала. Позже, когда она попыталась объяснить истинную причину, мистер Берзиньш горько рассмеялся:
— Любовь? Ты позволила ей уйти ради любви? Ничего подобного вообще не существует. Ты позволила ей уйти, чтобы какой-то проходимец шарил у нее под юбкой? Теперь из-за тебя она где-то гниет.
Но Зайга осталась жива. Ее любимый в самый последний момент ушел в леса к партизанам и пропал там навсегда, а она выжила. Почти через тридцать лет, в 1972 году, она приехала навестить родителей. Тогда и в голову никому не могло прийти, что через двадцать лет Советский Союз развалится. Она вышла замуж за русского, какого-то государственного чиновника, сама стала врачом и получила разрешение посетить Соединенные Штаты за счет пригласивших ее родителей. Ее сыновья по-русски говорили лучше, чем по-латышски, муж был членом коммунистической партии.
Миссис Берзиня надеялась, что они поговорят с Зайгой, как говорили когда-то, и даже мечтала, что когда-нибудь дочь переедет в Соединенные Штаты. Но дочь не испытывала ни малейшего желания переезжать. Национальность мужа и его партийная принадлежность давали ей возможность жить не в такой нищете, как жило большинство латышей, у которых не было ни еды в достатке, ни аспирина, ни марли, ни кофе, ни одежды, ни жилья. У ее сыновей были все возможности получить образование, недоступные большинству латышей. К тому же она жила в своей стране.
Цветущая, пышная, Зайга мало походила на ту стройную романтическую девушку, с которой когда-то расстались родители. С матерью вела себя сдержанно. Дождавшись, когда отец перестанет расхваливать жизнь в Соединенных Штатах и преимущества капитализма, она принялась перечислять задачи и цели коммунизма и критиковать корыстолюбие американцев, общество потребителей и сексуальную вседозволенность. Она ругала родителей за то, что поддались суевериям и посещают латышские лютеранские богослужения. Ее будущее в Советском Союзе, вместе с другими трудящимися. К тому же, в отличие от родителей, она живет не в изгнании; она поселилась недалеко от родительского дома, каждый день ходила знакомыми тропками мимо сосен и берез.