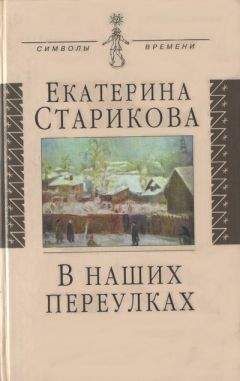Заборы в Москве, кажется, восстановили через год или два, деревья в саду почти все сохранились (фруктовые вымерзнут в лютую зиму финской войны), но цветов и травы в этом саду уже никогда больше не будет, он останется вытоптанным вплоть до полного исчезновения и последующей застройки его бывшего пространства. В память о «нашем саде», гордости и красоте нашего дома, в изголовье моей кровати висит старая репродукция Поленовского «Московского дворика», доставшаяся мне после смерти тети Тюни. На картине Поленова изображено не совсем то место, которое видно было из наших окон, но близкое от него. Спасопесковской церкви мы не могли видеть, но по дыму из труб «дома Карахана», как тогда еще говорили, я определяла перед выходом в школу, какая погода: на розовом или желтом фоне утренней зари был виден прямой (безветрие) или пологий (ветер) столб дыма, а на пасмурном небе ненастья его не было видно. В войну мы завистливо смотрели на этот дым: в доме Карахана, где давно разместился американский посол, было чем топить. Там, наверное, было тепло.
9
В те же годы мы, дети Стариковы, стали законными и постоянными обитателями нашего двора. Нас перестали водить гулять, «водить» стало некому, и мы могли вольно определять место своих прогулок. И оказалось, что узенькая щель между домами № 2,4 и 6 по Малому Каковинскому переулку и «нашим садом», несмотря на мизерность сжатого пространства, место очень и очень привлекательное. Там между кучей угля слева и тянувшимися справа конюшней, сараем и помойкой на черной вытоптанной земле, среди натянутых бельевых веревок, среди пыли выбиваемых ковров, половиков и шуб — то есть в присутствии всех обычных атрибутов московского двора тех времен — кипела во всем своем социальном и возрастном многообразии жизнь. Уже одно то, что примерно до середины 30-х годов в конюшне стояла «своя» лошадь, которой, правда, единолично распоряжался наш степенный дворник, татарин Измаил, — одно это вдыхало живую жизнь в пространство, лишенное единой травинки, но осененное громадным тополем, тянувшим старые корявые ветви из соседнего сада прямо к нашим окнам.
Со двора можно было видеть, как весной на подоконнике второго этажа соседнего дома возлежала, опираясь пышными локтями на подушку, рыжеволосая дама с пленительной ярко накрашенной улыбкой, обращенной ко всем зрителям, — певица, колоратурное сопрано, чьи вокализы оглашали и двор, и переулок. С первого этажа нашего дома неслись звуки бесконечных гамм, разыгрываемых на рояле строгой девушкой, живущей своей, таинственной для нас жизнью, никогда не сливающейся с жизнью двора. В другом окне первого этажа за кущей горшочных цветов видна была художница за мольбертом. На пожарной лестнице дома № 4, уходившей в опасную высь, висели в живописных позах знаменитые хулиганы нашего двора, поражая воображение не только девочек, но и мальчишек. Не задерживаясь, независимо и гордо проходили по двору круглолицые красавицы-студентки, дочери нашего дворника Измаила.
Подвалы на наших глазах стремительно заселялись, набиваясь до отказа выходцами и беглецами из деревень. Они приносили в московский быт свои обычаи и привычки. На утоптанной и без них земле двора они в выходные дни и праздники устраивали танцы под гармошку, пристукивая ногами и кружась совсем по-волковски. Звуки гармони и пьяное пение доносились часто и из окон подвалов, где до того только хранились дрова.
Я влюбилась в одного рыжего и ражего парня из подвала: меня пленило его розовое блестящее вискозное кашне, которое он носил под пиджаком. Ни слова «вискоза», ни такого обычая, ни такой смелости красок в мужском наряде я еще не слышала и не видела. И не устояла. Парню было лет двадцать, я никогда не обменялась с ним ни словом, и моя страсть осталась для него, как и для всех прочих, тайной.
Впрочем, большее и пронзительное впечатление на меня во дворе производила одна городская семья, на примере которой я ощутила, что такое бедность и унижение старого, как бы дореволюционного образца. Муж, жена и девочка (примерно моего возраста) — они не жили в наших домах, а приезжали к нам откуда-то обслуживать тех, кто в них нуждался и мог им что-то заплатить. Они выколачивали во дворе ковры, выбивали мебель и шубы, кололи дрова, мыли и натирали в квартирах полы. Тощие, малорослые, слабые, бледные, они все это делали, казалось, из последних сил и подобострастно благодарили за каждую подачку, тут же скармливая съестное своей прозрачной, молчаливой девочке. Было впечатление, что они никогда не расставались друг с другом. Какие несчастья стояли в прошлом за их бесправным и бедственным положением? Помнится, что произносилось слово «туберкулез» при упоминании этой семьи. Я же отчетливо чувствовала, что они несчастные и городские, что они страдают как-то особенно унизительно и беспомощно. Когда я начала читать Достоевского, а с помощью мамы я стала это делать очень рано, представить и пережить крайнее унижение бедности помогала мне не наша собственная нищета, а память об этой семье, скоро куда-то сгинувшей. Не могу вспомнить их имен. Кажется, женщину звали Катей. Во всяком случае красные пятна на ее худых вялых щеках были такими же, как у Катерины Ивановны Мармеладовой. Однако никаких претензий на «образованность» и «благородство» у этой, арбатской, не было, и унижения она несла полностью покорно, без попыток бунта.
Иногда, к вечеру, в щели нашего двора раздавались звуки шарманки и протяжное пение нищих бродячих артистов. И тогда уже мы сами повисали на подоконниках нашей комнаты, благодарно слушая любую песню, а потом бросали вниз плату за удовольствие и свою долю благотворительности — пятачок или другую медную мелочь, завернутую в бумажку. Ведь еще не было не только телевизоров, но и радио. Каждая музыка воспринималась подарком.
С лета тридцать третьего года образовалось наше особое положение во дворе. Прежних друзей ранних лет, интеллигентных девочек из окрестных домов, по-прежнему не пускали гулять во двор, оберегая из от тлетворного влияния «улицы», и двором они воспринимались как чужая чистая каста. Мы же, дети Стариковы, образовали промежуточный слой. Летом, а чаще только весной и осенью мы играли во дворе вместе с его постоянными обитателями. Зимой же, когда двор заваливало снегом, мы катались на санках, лыжах и коньках-снегурочках на Кружке и на Новинском бульваре, встречаясь с моими интеллигентными подругами. Постепенно к этим связям присоединились и школьные. Наш брат Алеша как полноправный член разделял «женское» общество на сквере и на бульваре, но во дворе он быстро сблизился с местными сорванцами-мальчишками.
То, что мы стали частью двора во всей его социальной пестроте, кажется, определило и то, что наша ранняя юность была более открыта разным сторонам бытия, чем у наших детских приятельниц, на всю жизнь сохранивших свой замкнутый кружок. Мы не боялись двора, потому что нас, в отличие от моих прежних подруг, было все-таки трое. Имело значение и то, что у нас был брат, смело разделявший дворовые развлечения мальчишек и тем самым оберегавший нас от обид с их стороны. Но тут сыграла роль и наша мама с ее общительностью и умением поддерживать отношения с самыми разными людьми. Стоило нам начать гулять во дворе, и она тут же разделила с нами его интересы. В общем наш двор постепенно стал частью родного дома для нас. Впрочем, в большей степени это касалось младших — брата и сестры. Двор сыграл свою роль и в будущем увлечении нашего брата всяческой «физкультурой»: футболом, упражнениями на турнике, устроенном как раз напротив наших окон. Я же все-таки не стала до конца непременной частью дворовой жизни, мне все больше нужны были книжные впечатления и порожденные ими фантазии.