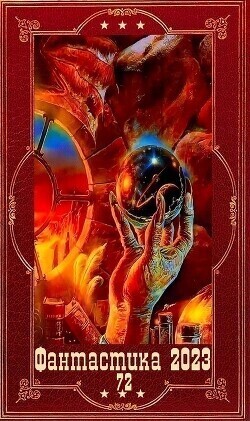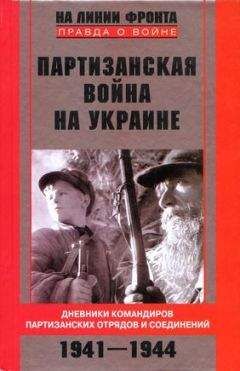условиях работать с картой и бумагами, когда по шинели текут ручьи, а руки сводит от холода.
– Что и говорить, – шепчет мне на ухо Петя Лапин, – а для будущих штабных работников условия созданы предельно приближенные к реальной обстановке.
Мне неприятной показалась эта реплика. Я знал одно: я должен пройти практику оперативного планирования и оформления документов в тяжелых природных условиях. И говорить тут не о чем. Работая с увлечением, я испытывал даже определенное наслаждение от того, что все так неудобно, мокро и сыро. Я чувствовал, что именно это мне теперь и нужно после всех моих личных переживаний. Нужно для того, чтобы забыться, чтобы вышибить клин клином.
Пройдя за день более тридцати километров, мы обосновались, наконец, в густом еловом лесу и оборудовали наш КП под вековыми деревьями. Обрубив нижние ветки и пристроив плащ-палатки в виде навеса, мы уже располагали «комфортабельным кабинетом», в котором было хотя бы относительно сухо. Разложив на плащ-палатке карты и лишь предохраняя их от случайных капель воды, мы занялись «нанесением оперативной обстановки за истекшие сутки».
– Обозначение условных знаков и различие цветов на схемах, – по ходу дела читал нам лекцию майор Яковлев, – должны быть предельно стандартными. Для каждого оперативного периода и конкретного боевого действия должен быть принят свой условный цвет. Эти незначительные детали облегчают прочтение документа и избавляют от непроизводительных потерь времени и ошибок в работе.
Несмотря на усталость, штабная игра захватила меня… К ночи дождь прекратился. Но было страшно холодно и сыро. Тем не менее под растянутыми на ветках плащ-палатками, при свете небольших коптилок, заранее приготовленных из консервных банок, мы продолжали до утра свою работу над картами и приказами. Лишь с рассветом, когда был закончен весь комплект штабной документации на наступление стрелкового батальона, нам удалось немного поспать.
23 сентября. К 8 часам утра в деревню Пальцево, расположенную в километре от нашего КП, подошли кухни, а вместе с ними и приказ лично для меня: срочно возвращаться в Боровичи в распоряжение начальника учебной части курсов. Весь день я шел назад более коротким путем – от Пальцево через бывшую почтово-ямскую станцию Плужино. Пройдя за день 28 километров, я к вечеру вернулся в Боровичи.
После отдыха и ужина, я доложился в учебной части, где мне тотчас же поручили составление плана работ по оформлению кабинетов учебными и наглядными пособиями.
24 сентября. В помещении топографического отдела курсов, находившегося вне территории военного городка, нам выделили отдельную небольшую комнату для работы. Помощниками мне назначили лейтенанта Дмитриева – великолепного чертежника и топографа и немолодого добродушного лейтенанта Потапова – неплохого графика и шрифтовика. Работать в компании с такими людьми – спокойными, веселыми, умными – подлинное удовольствие. Каждый из нас будет трудиться в той области, в которой обладает наибольшими способностями, знанием и навыками. Я поражался тому, как Потапов быстро, ровно и пластично рисовал самые разнообразные шрифты, буквы и литеры. Сам же Потапов искренне удивлялся тому, как я готовился писать маслом таблицы для артиллерийского кабинета.
– Послушайте, Николаев, неужели вы действительно собираетесь писать их маслом?!
Полное, добродушное лицо Потапова расплывается в улыбке, и он, с каким-то особенным чувством произносит само слово «маслом», как будто речь идет натурально о чем-то очень вкусном и приятном. Мы с Дмитриевым смеемся от души.
По грунтованному клеем картону жидкой краской я прописываю пейзаж. А затем алым цветом наношу схематическое расположение войск и огневых позиций артиллерии в соответствии с решением оперативной задачи.
– Смотрите, Дмитриев, смотрите, – кричит с искренним возмущением Потапов, – каков варвар, а! Зачем он портит этой отвратительной красной краской такой великолепный пейзаж?!
– А вы, Потапов, разве не знаете, – со спокойной улыбкой говорит Дмитриев, – что само существование войны уже есть величайший прецедент того, что вы именуете «порчей великолепного пейзажа». Николаев всего только оформляет это документально. И надо сказать, со вкусом, мастерски.
– А я бы, – горячится Потапов, – предпочел любоваться этаким пейзажем без вашего «документального оформления».
Мы уже собрались идти на ужин, как увидели направляющегося к нам полковника Арзуманова. Он, как сам выразился, «решил полюбопытствовать на нашу работу». Заложив руки за спину, он долго разглядывал только что законченную в масляном варианте «картину», иллюстрирующую наглядно решение «оперативно-тактической задачи».
– Безусловно, – сказал он, обращаясь ко мне, – ваши пейзажи, лейтенант, делают вам честь как художнику. Они красивы и изящны. Но решение любой тактической задачи, в оперативном плане, должно быть также изящным и красивым. Я думаю, штабной офицер – это тоже художник в военном искусстве.
25 сентября. С разрешения Арзуманова мы втроем отправляемся на вечерний спектакль в оперетту. Дают «Свадьбу в Малиновке». Сидим в партере и от души хохочем над тем, как Попандопуло меняет пулеметы на галифе.
Вдруг действие прерывается, в зале зажигается свет, а вышедший на просцениум представитель горкома объявляет сообщение «Совинформбюро» о взятии нашими войсками Смоленска. Зрители аплодируют, кричат «ура», жмут руки соседям. Возвращаемся из театра в приподнятом настроении. Неужели это уже предвестие нашей грядущей Победы над врагом?!
26 сентября. Воскресенье. Мы вновь втроем отправляемся в театр. На этот раз в драму, на афиногеновскую «Машеньку». Я хорошо помню довоенную постановку на сцене Театра Моссовета с Марецкой в заглавной роли. Спектакль, сыгранный в Боровичах силами ленинградских актеров, принимался публикой с каким-то особенным восторгом. В зрительном зале многие плакали.
– Я думаю, – сказал Дмитриев, – неумолимая жестокость военного времени оголила в людях естественную тягу к самой обычной человечности, ранее нами всеми так мало ценимой.
Придя домой из театра, мы застали наших слушателей, вернувшихся из учебного похода, усталыми, грязными и голодными.
27 сентября. Весь день штабная рота отмывалась в бане, чистилась, приводила себя в приличный вид и отдыхала.
Мы работали в своей мастерской и встретились с товарищами только лишь вечером, после ужина.
28 сентября. По случаю возвращения штабной роты с тактических учений ее командир майор Кабанов, или просто Кабан, делал смотр на утренней поверке, выведя на плац вверенное ему офицерское подразделение.
– Ну шо, антилигенцы, уси тут? – взревел Кабан, опираясь толстыми и волосатыми пальцами рук о бедра. – А де те богомазы, сучьи дети?
«Богомазами» командир роты называл нашу группу оформления – Дмитриева, Потапова и меня.
– Ты иде шляишси? – обращается майор ко мне, тыча в грудь волосатым пальцем, – рота стоить, а вин, вражина, жопу чешить. Дэ твое место, матери твоей дышло. На левый фланг. И кода тольки я сбавлюсь от вас, анчихристи треклятые? Уси теперь?
– Все, – слышится одинокий возглас.
Но Кабан еще не натешился.
– А Зелихович тут?
– Зелиховича нет, – отвечает командир взвода.
– А