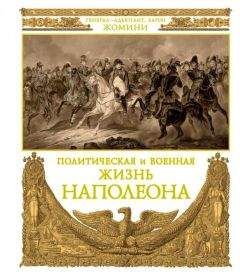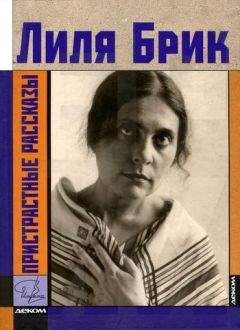Еще труднее было понять, как в то самое время, когда кабинет этою условною ратификацией затруднял свои сношения со мною, он приказал одной части своих войск вступить в Ганновер, а остальных привел в состав по мирному положению и, уменьшив таким образом число их в половину, разместил по всему протяжению государства. Он думал отстранить все затруднения, прислав ко мне в Париж Гаугвица, чтобы продолжать переговоры.
Если бы отказ, им привезенный, был сопровождаем объявлением войны, я бы понял его; но принять стыд вторжения пруссаков в Ганновер и начать снова уже оконченные со мною переговоры было такое запутанное дело, которое самому искуснейшему дипломату было бы трудно уладить. Этот случай и возрастающая ненависть ко мне берлинцев, доверием которых пользовался Гарденберг(9), известный приверженец Англии, (он родился в Ганновере и был английский подданный) одним словом, тысячи обстоятельств показывали мне, что, несмотря на благородный характер Фридриха Вильгельма, я должен был остерегаться Пруссии. В Берлине все, исключая кабинет, принимало неприязненный вид; армия, стыдясь той роли, которую возлагала на нее политика, громко требовала войны; многочисленные толпы офицеров оскорбили в его собственном доме миролюбивого министра, предпочитавшего увеличение государства несвоевременной и невыгодной войне. Гусарские поручики хотели самовольно решать важнейшие вопросы политики и выгод государства.
Я тотчас же заметил все выгоды, которые можно было извлечь из моего положения относительно остальной части Европы. Пруссии должно было в две недели или решиться принять мою систему и отдаться под мое непосредственное влияние, или пасть под моими ударами.
Очевидно, что Венский трактат, обезображенный десятью строками, разрушавшими самые основания его, совершенно уничтожался: я объявил Гаугвицу, что Берлинский кабинет сам его уничтожил, и что дела должны быть подвергнуты новым переговорам. Я требовал, чтобы немедленно были уступлены обмененные провинции, потому что уже Аншпах был мною отдан; чтобы Пруссия отказалась от уступки Баварией 20 000 жителей; наконец, чтобы Берлинский кабинет запер гавани для английской торговли. Те самые министры, которые отвергли договор Гаугвица, заключенный с взаимными выгодами, почли себя счастливыми, не имея уже в своем распоряжении армии, что могут заключить со мною мир, хотя на постыдных условиях. Я отчасти ожидал этого результата: я обнял одним взглядом положение, в которое поставили короля его слабые советники и рассчитал, что он не мог иначе из него выйти, как покоряясь безусловно закону необходимости, или подвергая себя бедственным случайностям войны. При всем том, я был удивлен поспешностью, с которою он согласился на эту уступку: я привык видеть в поступках Фридриха Вильгельма глубокую обдуманность. Даже Потсдамский договор, не смотря на то, что он был заключен почти непосредственно после неприязненного движения пруссаков на Вислу против русских проистекал слишком ясно из нарушения нами неприкосновенности нейтральных владений и его можно было рассматривать как результат умно начертанной системы; он даже обнаруживал такую сильную волю, что заставлял меня ожидать скорее разрыва, нежели такой развязки, которая, без помощи оружия, выполнила все мои желания: эта победа, одержанная одним почерком пера, превзошла все мои ожидания. Я держал в своих руках Европу; надобно было этим воспользоваться; случай не замедлил представиться.
Лишь только новый трактат, заключенный 16 февраля и ратифицированный неделю спустя в Берлине, поставил Пруссию в зависимость, в которой она до сих пор не находилась, как новые неприятности чуть не произвели разрыва с Австрией вследствие двух, довольно важных происшествий: Венский кабинет, уступая мне венецианскую Далмацию, обязался передать Франции весьма важную гавань Каттаро; австрийцы ограничились тем, что вывели свой гарнизон; но русские войска 15-й дивизии, расположенной на семи островах, послали туда отряд, усиленный черногорцами, так что мы только с помощью оружия могли овладеть этим местом. Я требовал, чтобы Австрия ввела меня во владение этою гаванью, и как я не мог сухим путем пройти из Венеции в Далмацию, иначе как через Триест и Кроацию (Хорватию), то просил Австрию дозволить мне проход через ее владения, в котором она никогда не отказывала Венеции.
В Германии происшествие другого рода едва не поссорило нас: австрийцы послали свои войска занять Вюрцбург, который был уступлен не им, а великому герцогу Тосканскому. Это могло быть допущено по древним правам германской империи, но не соответствовало моим видам на Германию.
Я приказал остановить движение пленных, проходивших Швабию; присоединил к моей армии батальоны депо, которые составляли резервные корпуса Лефебра и Келлермана, что увеличило армию сверх комплекта, и предписал князю Невшательскому, оставленному мною в Баварии, не сдавать австрийцам Браунау и захватить батальоны, которые дерзнуть войти в Вюрцбург, если они не удалятся по первому требованию.
Уверенный в союзе Пруссии, я решился броситься с 250 000 на Австрию, не имевшую армии, или воспользоваться моим положением, чтобы заставить ее исполнять условия договора и вместе с тем отказаться от мысли преобладания в германской империи [Наполеон имел право требовать исполнении условий в отношении Каттаро; но ему не следовало самому нарушать договор, ниспровергая государство, им самим признанное].
Твердость моего положения и укомплектование армии тем более внушали ей опасения, что ее войска были совершенно расстроены и что напрасно ожидали возвращения пленных корпусов Макка для преобразования армии. Слабое положение Австрии и война, объявленная Англии Пруссией, делали меня властелином Германии; я решился воспользоваться удобным случаем, какого, может быть, мне никогда бы более не представилось, чтоб получить на твердой земле такое мощное преобладание, которое бы сделало меня ее повелителем и дало бы мне все средства восторжествовать в войне на море.
Я уже сделал некоторые предварительные распоряжения для приведения в исполнение этой системы, возведя моих братьев на троны, которые должны были вместе и возвысить мою фамилию, и привести пограничные державы под непосредственное влияние Франции. Императорский трон был наследственным в моем роде: я был родоначальник новой династии, которой века придали бы такую же законность, как и всем другим венценосным домам. Со времен Карла Великого ни одна корона не была возлагаема с такою торжественностью: моя власть была освящена и желанием народа и благословением церкви. Члены семейства моего, призванного царствовать, не должны были оставаться в разряде частных людей.