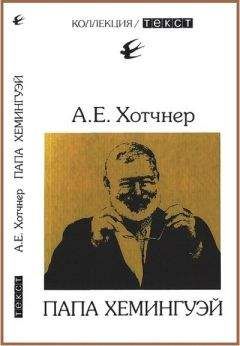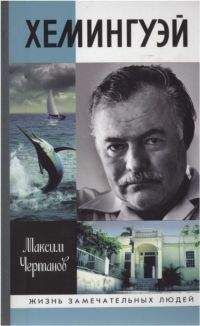Как обычно, Эрнест сидел рядом с Хуаном. Он смотрел вперед, не отводя глаз от лозунгов.
— Теперь ты видишь сам. Да, похоже, это мое последнее лето здесь.
Жители Сан-Франсиско-де-Паулу приветствовали его, и в ответ он махал людям рукой и улыбался. Дома, в столовой, мы спокойно и мило пообедали с Мэри, и Эрнест расточал комплименты жене, хваля приготовленные ею фруктовый суп и бонито. Но сам он ел очень мало, а в бокал вина долил воды. Часто глаза его закрывались, и он тер их пальцами. Похоже, бороду Эрнест не подравнивал уже несколько месяцев. Он здорово полысел, и прикрывал образовавшуюся лысину, зачесывая волосы вперед, что делало его похожим на римского императора.
После обеда Эрнест вручил мне рукопись «Опасного лета» — 688 страниц. Я пошел на верх башни и принялся ее изучать. Было страшно жарко, и мне приходилось все время вытирать пот со лба, чтобы он не залил глаза (на финке тогда не было кондиционеров). Я читал и делал заметки всю оставшуюся часть дня. Ночью, казалось, стало еще жарче, спать все равно было невозможно, поэтому я продолжал работать.
Назавтра после полудня я представил Эрнесту список из восьми кусков, которые можно было бы сократить в первой сотне страниц. Он с этим списком пошел в свою спальню, а я — снова в башню, читать рукопись дальше. Непереносимый зной заставлял всех двигаться в замедленном ритме. Раньше я никогда не приезжал на Кубу летом, и теперь первый раз вкушал прелести настоящего кубинского лета.
На следующее утро мы с Эрнестом обсуждали сокращения, сидя в его спальне. Перед ним на столике лежали семь разноцветных таблеток, которые он запивал водой из сифона, и лист бумаги, на котором было записано, почему все мои предложения должны быть отвергнуты.
Это был весьма странный и довольно бессмысленный документ. Например, Эрнест перечислил четыре причины, по которым определенные страницы должны быть сохранены, а закончил этот пассаж таким утверждением: «Но все равно ничего не изменится». Кроме того, все написанное отличалось отсутствием какой-либо логики, фразы были плохо построены, многое повторялось. Я никак не мог понять — зачем он все это написал, дал мне читать и теперь смотрит, как я буду реагировать. Прежде мы часто обсуждали с ним его новые произведения — «За рекой, в тени деревьев», «Старик и море», воспоминания о Париже, рассказы, — но сейчас я впервые видел его в таком состоянии, впервые его заметки были столь смутны и непонятны.
Я взял его записи без единого слова. Последующие три дня я работал над рукописью, показывая Эрнесту свои предложения и не обращая внимания на его возражения. Я объяснял ему, почему, как мне кажется, нужно сократить тот или иной кусок, но не давил на него. Я понимал, что Эрнест страшно измучен желанием сохранить все до единого слова, с одной стороны, а с другой — необходимостью сократить повесть до нужного журналу объема.
— То, что я написал, похоже на Пруста, а убрав детали, мы все нарушим, — говорил он.
Поздно вечером мы плавали в большом бассейне. Вода была как парное молоко. Я смотрел, как Эрнест медленно заходил в воду. Он сильно похудел. Грудная клетка и плечи потеряли былую мощь, руки стали мягкими и бесформенными, словно какой-то неумелый мясник срезал его огромные бицепсы.
Однажды ночью, когда из-за жары спать было совсем невозможно, я нашел в своей комнате старые номера журнала, который выходил в Париже в двадцатые годы. Листая их, я наткнулся на «На Биг-Ривер» и «Непобежденного». Несомненно, это были первые публикации рассказов. Я нашел также статью Эрнеста Уолша, редактора журнала, в которой он провозглашал: «Хемингуэй завоевал своего читателя. Он заслужит больших наград, но, слава Богу, никогда не будет удовлетворен тем, что делает. Он — среди избранных. Он принадлежит людям. Потребуются годы, прежде чем истощатся его силы. Но он до этого не доживет».
На четвертый день Эрнест наконец-то одобрил сокращение трех страниц, и после этого медленно и неохотно ослабил сопротивление. Через девять дней тяжелого труда нам удалось сократить рукопись на пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать слов. На следующий день Эрнест объявил, что больше не может работать:
— Я разбираю буквы на странице только первые десять — двенадцать минут, потом глаза устают, и я снова могу читать только через час, а то и два.
Мы решили, что я забираю рукопись, в которой теперь было уже пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать слов, везу ее в Нью-Йорк и отдаю в «Лайф», где редактор, если нужно, может еще подсократить текст.
— Скажу тебе честно, Хотч, хоть я и стараюсь все делать как можно лучше, мне кажется, что я живу в кафкианском кошмаре. Я пытаюсь быть со всеми как прежде, но у меня плохо получается. Чувствую себя избитым и физически, и морально.
— Что тебя больше всего тревожит? Ситуация с Кастро?
— Отчасти это. Меня-то он не тронет. Я для них — хорошая реклама. Думаю, они не будут мне мешать жить здесь по-прежнему. Но я все-таки американец и не могу оставаться здесь, когда издеваются над другими американцами и над моей страной. Думаю, для меня все здесь закончилось в ту ночь, когда они убили Черного Пса. Парни Батисты в поисках оружия заявились на финку среди ночи, а бедный старый полуслепой Черный Пес, как всегда, охранял дом. И вот один из солдат забил собаку до смерти прикладом винтовки. Бедный старина Черный Пес. Мне его ужасно не хватает. По утрам, когда я работаю, он уже не лежит за моим столом на шкуре куду. А в полдень, когда я плаваю в бассейне, он не охотится на ящериц, и вечерами, когда я сижу в своем кресле, не трется спиной о мою ногу. Я скучаю по нему, как по старому верному другу. А теперь мне предстоит потерять еще и финку — нет смысла себя обманывать. Я знаю, мне нужно уезжать отсюда. Но как можно смириться с такой потерей? Финка — это все, что у меня есть. Мои картины, книги, место, где я работаю, мои воспоминания…
— Но наверное, картины не обязательно оставлять?
— Я решил взять с собой Миро и два полотна Хуана Гриса.
— Могу вывезти их в своем чемодане, если мы вытащим картины из рамок и свернем в рулон.
— Ну, нет, я не позволю тебе так рисковать.
— А что ты думаешь о предложении Музея современного искусства выставить их? Ты говорил мне, что Альфред Барр несколько раз просил тебя дать Миро на выставку.
— Думаю, стоит попробовать. Я ему напишу.
— Прошлым вечером я читал новые главы парижской книги — это просто замечательно, Папа. Как будто я сам жил в Париже в те годы, и теперь, приехав в Париж, я словно вернусь в свое прошлое.
— Как ты думаешь, зажарит меня Конгресс на сковороде за то, что я хорошо пишу о бедном Эзре?