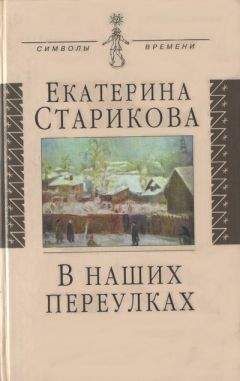Вскоре после убийства Кирова отменили продовольственные карточки. И этот момент — 1-е января 1935 года — запомнился как праздник. Можно войти в булочную и купить сколько угодно хлеба. Вернее, сколько у тебя есть денег. Денег всегда было мало.
Брат и сестра еще ходили в детский сад в Сивцевом Вражке, мама вечно толклась там, помогала воспитателям, я иногда заходила к ним из школы. И, о патриархальные нравы! Повариха усаживала меня вместе с малышами за стол. Толстые, грубые, но со сметаной блины казались мне необыкновенно вкусными. Если мы с мамой оказывались днем дома вдвоем, она посылала меня в булочную за свежим батоном. Вместо обеда мы с ней пили крепкий чай и съедали весь батон, намазывая на хлеб соленое масло. Представляю, как осудила бы маму Наталия Алексеевна! Мне же эти отступления от будничных правил запомнились как праздник. Ешь хлеба, сколько хочешь. Когда собиралась за стол вся семья, «сколько хочешь» никогда не получалось. Но вся семья собиралась все реже и реже.
А в каком году у нас дома появилось радио? Не в том ли же 1934? Проведение в квартиры радиотрансляции, водружение на стену нашей комнаты черной тарелки репродуктора стало поистине еще одной революцией в нашем ежедневном существовании. Радио теперь было включено почти постоянно. Мы собирались в школу или в детский сад под звуки «Пионерской зорьки», а засыпала я под бой курантов со Спасской башни. Тогда разрешалось автомобилям сигналить на улицах, и вместе со звоном часов по радио до нас доносились разнообразные гудки проезжавших мимо автомобилей, что создавало ощущение полной твоей причастности к некой общей жизни — города и страны. Эффект был кем-то очень точно рассчитан.
Но не только политической пропагандой отличалось советское радио тех лет. Одновременно это был и могучий источник распространения культуры в полуграмотной стране: спектакли, оперы, концерты, лекции — все это транслировалось обильно и на очень высоком интеллигентном уровне. Один язык дикторов чего стоил в смысле просвещения! Голоса Лемешева, Козловского, Барсовой, Обуховой звучали в наших ушах постоянно. Песни Бетховена, песни на слова Беранже, русские романсы входили в ежедневный обиход нашей жизни. «Евгений Онегин», «Кармен», «Травиата», а позднее — «Князь Игорь» и «Хованщина» передавались по радио так часто, что мы знали и распевали, как могли, классические оперные арии. Нас водили и в театр. Считалось, что по крайней мере два раза в сезон дети должны посетить Большой театр, а драматический — сколько уж удастся. Билеты были дешевы. Но одно дело сходить раз на известную оперу, а другое дело прослушать ее целиком и частями десятки раз. Мы слушали их десятки раз.
Конечно, столь же часто, как классика, передавалась по радио и советская музыка. Массовые песни того времени — это была, может быть, самая сильная пропаганда господствующей идеологии. Но музыка-то была в них неплохая: Шостакович, Дунаевский, Покрас… Музыкального вкуса по крайней мере она не портила.
Большую радость нам доставляли детские радиоспектакли. После жестокой пугающей политграмоты начала 30-х годов вдруг нам стали не только рассказывать, но и изображать (да и делали это самые хорошие актеры) занимательные истории самого разного рода — тут и любимый нами особенно «Робин Гуд», тут и замечательный «Китайский секрет» (история изобретения фарфора в беллетризованной форме), тут и «Музыкальная табакерка» и многое, многое другое. И все это в сопровождении милой музыки, веселых песенок, бесконечно нами распеваемых. Радио отгоняло от нас до поры до времени и страхи, и чувство одиночества. Во время самых увлекательных и любимых передач мы обычно садились все вместе прямо на стол, чтобы оказаться поближе к висевшей волшебной тарелке и обмениваться тут же впечатлениями. Именно так мы подробно обсуждали только что обнародованный план реконструкции Москвы и гордились, и радовались, что наш дом окажется на углу Нового Арбата и мы прямо из окон будет любоваться неведомым проспектом. Никак не могли подумать, что наш дом, давно уже не наш, окажется на замусоренных задворках этого проспекта. Во время радостного обсуждения будущего мы подсчитывали, можем ли мы дожить до вожделенного и таинственного 2000 года и сколько каждому из нас станет тогда лет. Сходились на том, что младшие непременно доживут, а вот моя судьба всем казалась сомнительной. И сейчас, когда до начала нового тысячелетия осталось совсем немного, я по-прежнему хочу верить в точность наших былых арифметических расчетов. Это было бы справедливо[7].
Да, в зиму 1934–35 годов во всяком случае радио у нас в комнате уже было. Репортаж о возвращении челюскинцев и о восторженной встрече их на улицах Москвы я слушала, лежа больная в постели. По-прежнему увлеченная арктическими путешествиями, я и за «челюскинской эпопеей» (так тогда называли это событие в газетах) следила пристально. Вскоре папа подарил мне толстую книгу с историей затонувшего ледокола и спасения его пассажиров. Книга была снабжена множеством фотографий и карт. Вникая в них, я несколько недоумевала: в чем же героизм тех, кто на льдине ждал избавления? А что им оставалось делать? Героями в моих глазах были летчики-спасатели, но не пассажиры. Мне казалось несправедливым, что спасателей и спасенных чествуют одинаково. Как заметили еще педологи, мне всегда не хватало правильных политических оценок текущих событий. Вульгарный здравый смысл мешал мне воспарить над очевидностью.
Когда сейчас, в 90-е годы, я часто слышу по телевизору и читаю в газетах горестные причитания о необходимости «духовного возрождения» после семидесяти с лишнем лет духовной спячки, я могу только усмехнуться над таким плоским однолинейным восприятием истории. Восстали к вершинам духовности и культуры! С таким-то языком? С таким «говорухинским» представлением о прошлом России? С таким пониманием процессов самой революции? С таким потребительским требованием к жизни? И грустно, и смешно. И, главное, чревато трагическими контрдвижениями. Сколько мы их пережили! И еще дождемся.
Нет, страшные, кровавые тридцатые годы не были бездуховными. И подготовленное к войне поколение, воспитанное этими годами, не было бездуховным. Рушили церкви, Пушкина и Толстого трактовали в «классовом духе», оправдывали тиранию и палачество высокими идеалами всеобщей справедливости. Но ощущение духовного идеала и неэгоистических целей человеческого существования присутствовало властно в жизнеощущении этих поколений. У старших, выросших в 20-е годы, — в формах жестко-революционных (или контрреволюционных), у нас, младших, повзрослевших в 30-е годы, — в формах постепенного приближения к общегуманистическим идеалам.