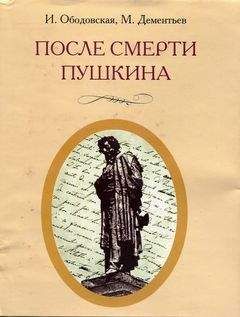Все это несомненно и живо вспоминалось Пушкину, когда он писал свое письмо Гончаровой. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение Вашей дочери, — писал поэт. — Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, — продолжает поэт, — будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз... Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад.
Перейдем к вопросу о денежных средствах; я придаю этому мало значения. До сих пор мне хватало моего состояния. Хватит ли его после моей женитьбы?Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где она призвана блистать, развлекаться. Она вправе этого требовать. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование. И все же, не станет ли она роптать, если положение ее в свете не будет столь блестящим, как она заслуживает и как я того хотел бы? Вот в чем отчасти заключаются мои опасения. Трепещу при мысли, что вы найдете их слишком справедливыми».
Письмо было вручено адресату на следующий день и, как мы видели, оно не помешало тому, чтобы предложение было принято. Однако будущая теща крепко запомнила заверения поэта о готовности всем пожертвовать для того, чтобы его жена могла блистать в свете, пускала в ход эти заверения в тех бурных сценах, которые в период жениховства поэта и в первые месяцы после свадьбы ему устраивала и которые не раз ставили их брак на грань разрыва. Но помнил их и сам Пушкин и в последующей семейной жизни всячески старался их выполнять.
Сразу же поэту были предъявлены и еще два непременных условия: уточнить его материальные средства и возможности и, главное, дать доказательства, что он не находится «на дурном счету у государя». Пушкин вынужден был обратиться с пространным письмом к Бенкендорфу, в котором прямо заявлял, что его счастье зависит «от одного благосклонного слова» царя. И благосклонное слово было дано. Женитьба на Гончаровой показалась весьма подходящим средством (женился — остепенился) утихомирить беспокойного непоседу поэта (кстати, и свою недавнюю просьбу о заграничной поездке он мотивировал тем, что «еще не женат и не находится на службе»), «Вы всегда на больших дорогах», — укорял около этого же времени Бенкендорф не перестававшего вызывать подозрения, «не думающего ни о чем, но готового на всё» поэта, как в эту же пору докладывал о Пушкине ближайший помощник Бенкендорфа, ведавший всей секретной агентурой, фон Фок своему шефу. Все это недвусмысленно прозвучало и в ответе Пушкину Бенкендорфа, данном им от имени царя и от себя лично: «Я имел счастье представить государю письмо от 16-го сего месяца, которое Вам угодно было написать мне. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей Вашей женитьбе и при этом изволил выразить надежду, что Вы хорошо испытали себя, перед тем как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова». Как видим, красота Натали тогда была и замечена, и оценена Николаем. Затем, рядясь в овечью шкуру, не останавливаясь перед явной неправдой, в подобном же «отеческом» тоне пишет Бенкендорф и от себя: «Что же касается Вашего личного положения, в которое Вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил Вам много раз: я нахожу, что оно всецело соответствует Вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только Вы сами не сделаете его таким. Его императорское величество, в отеческом о Вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу — не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, — наблюдать за Вами и наставлять Вас своими советами; никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за Вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете всё более и более убеждаться. Какая же тень падает на Вас в этом отношении? Я уполномачиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому Вы найдете нужным».
В заключение царь сделал очередной «милостивый» жест. В ответ на просьбу поэта, в качестве своего рода свадебного подарка, позволил напечатать его историческую трагедию, которую лет пять назад предложил переделать в роман, в том виде, как он хочет и без всякой цензуры (так разрешил Александр I Карамзину печатать его «Историю Государства Российского»), но с обязывающей припиской: за личной ответственностью автора. Разрешение это дало возможность Пушкину как-то наладить перед женитьбой свои материальные дела. Кроме того, отец, в ответ на его просьбу, выделил ему 200 душ крепостных крестьян, проживавших в селе Кистеневе, входившем в состав Большого Болдина. Получив письмо Бенкендорфа, Пушкин поспешил представить его Гончаровой-матери и сразу же, 6 мая, состоялась помолвка. Поэт и Натали официально стали женихом и невестой. Весть об этом широко распространилась среди всех знавших Пушкина и даже лично не знавших его и на длительное время — больше чем на полгода — продолжала сохранять свой сенсационный характер. Не прекращались толки, пересуды; многие пророчили, что брак этот не может принести счастья ни жениху, ни невесте. Одни жалели ее, другие — самого поэта. «Я боюсь за Вас: меня страшит прозаическая сторона брака»,— писала Пушкину одна из его близких великосветских знакомых, страстно и безнадежно в него влюбленная дочь Кутузова и хозяйка одного из наиболее просвещенных петербургских салонов Е. М. Хитрово. «Кроме того, — продолжала она, — я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий, что полное счастье, прочное, продолжительное и, в конце концов, немного однообразное, убивает способность, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта». И так думала не одна она.