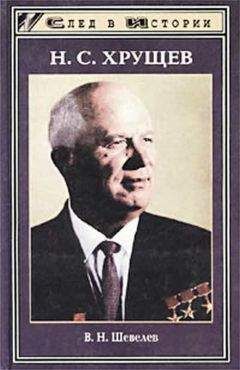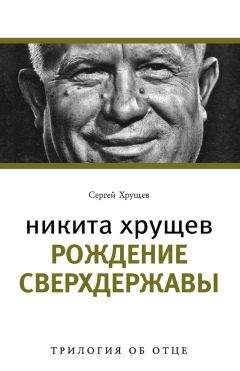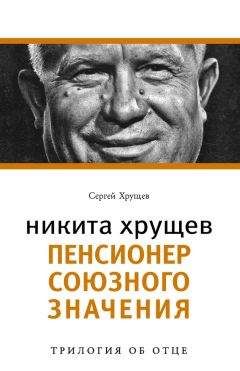«Будучи оратором «на все темы», Хрущев тем не менее не просто болтал, как это многим казалось. Он был первым основоположником той новой школы ораторского искусства в большевизме, которая пришла на смену старым школам: блистательного Троцкого и академического Бухарина. Речи Троцкого, напечатанные без указания оратора, без малейшего труда можно узнать именно как его речи, также и сочинения Бухарина — как бухаринские. Такими же ярко индивидуальными были стили и других вождей большевизма — Ленина, Луначарского, Каменева и других.
Новая школа не признавала и не признает индивидуального стиля — речи Молотова, Кагановича, Хрущева, Маленкова, Булганина отличаются друг от друга только именами их произносящих… Это был современный, новый, безличный, «коллективный» стиль с одним и тем же запасом слов и с такими же стандартными предложениями при абсолютном отсутствии особых ораторских приемов, звонких фраз, лирических отступлений и даже личного местоимения. Они, собственно, и не говорили за себя или от себя».
В 1936–1937 годах Хрущев играл ведущую роль в чистке столичной парторганизации, при этом проявляя большое рвение. В январе 1936 года на пленуме городского комитета партии он говорил: «Арестовано только 308 человек; для нашей московской организации это мало». Выступая летом 1937 года на отчетной партийной конференции, Хрущев заявил, что агенты врагов народа просочились даже на городскую партконференцию.
В мемуарах Хрущев с возмущением говорит о тогдашних репрессиях в Московской парторганизации, однако он сам принимал в них активное участие. Коммунисты, обращавшиеся к нему за помощью, поддержки со стороны Хрущева не находили. Так, Ростислав Ульяновский, впоследствии известный ученый-востоковед и работник ЦК КПСС, вспоминал об этих тяжелых временах: «Ордер на арест был подписан заместителем народного комиссара внутренних дел Прокофьева… Но внизу ордера стояла весьма знакомая подпись — Н. Хрущев. Мой арест был согласован с Московским комитетом партии… Это меня удивило: Хрущев меня знал. Я был одним из лучших и наиболее популярных пропагандистов Бауманского района и МК».
Хрущев с помощью Кагановича быстро поднялся на самые верхи партийно-государственной иерархии, но он остался таким же необразованным и малокультурным человеком. Слепая вера вместо анализа, бездумная исполнительность подменяли критическое течение мысли. Вряд ли он далеко ушел от «незабвенного» шолоховского люмпена Макара Нагульнова, готового ради революции уничтожить всякого: «Гад! Как служишь революции? Жа-ле-е-шь? Да я тысячи станови зараз дедов, детишков, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Для революции надо… Я их из пулемета всех порешу!»
Работая секретарем Московского комитета партии, Хрущев начинает тесно контактировать с московским управлением НКВД, во главе которого находился Реденс, по национальности поляк. На стол Хрущева ложились сводки и донесения о происшествиях в городе и области. В мемуарах Хрущев вспоминает, что в сводках приводилось довольно много нелестных отзывов о партии и оскорбительных высказываний в адрес ее вождей. Однако против таких людей в то время никаких мер, кроме воспитательных, не предпринималось. Ситуация изменилась только после убийства Сергея Мироновича Кирова.
И в докладе на XX съезде партии, и в мемуарах Хрущев много говорит об этом трагическом событии. Он убежден, что убийство Кирова подготовил Генрих Ягода, который мог действовать только по секретному поручению Сталина. Таким образом был устранен реальный соперник, а затем выбита вся «ленинская гвардия», где было много не согласных с политикой и методами Сталина. Понятно, что в то время у Хрущева подобных мыслей не возникало. После убийства Кирова он возглавил московскую делегацию, направленную в Ленинград, и стоял в траурном почетном карауле. Хрущев являлся также членом комиссии по организации похорон вместе с А. Енукидзе, М. Чудовым, П. Алексеевым, Н. Булганиным и Я. Гамарником, — созданной решением Политбюро 1 декабря 1934 года.
Мысль о том, что убийца Кирова Николаев действовал не один, а организатором убийства был сам Сталин, первым высказал отнюдь не Хрущев, а Лев Троцкий еще в 1935 году. Вскоре после этого о том же говорили бежавшие на запад агенты советских спецслужб В. Кривницкий и А. Орлов. И тем не менее, нет прямых свидетельств, участия Сталина в этой трагедии. Более того, в последнее время ряд специалистов-историков склоняется к версии об убийце-одиночке и мотивах личной мести обманутого мужа, каковым был Николаев.
Однако Хрущев, несомненно, прав в том, что убийство Кирова было использовано как повод для организации «большого террора». Конечно, в то время он верил Сталину и органам НКВД и сам был в первых рядах «за чистоту» партии. «Нужно уничтожать этих негодяев. Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа», — говорил Хрущев в мае 1937 года на пленуме МГК партии. Однако можно допустить, что его, как человека здравомыслящего, беспокоило то обстоятельство, что органы безопасности были поставлены над партией. Свыше дали указание: при выборах в партийных организациях все кандидатуры, выдвигающиеся в руководство, проверять — не связаны ли они с уже арестованными врагами народа. И хотя секретари обкомов партии должны были проверять правильность действий органов НКВД — таково было указание Сталина, — это являлось не больше чем фикцией.
В своих мемуарах Хрущев констатирует, что к 1938 году прежняя демократия в ЦК была уже значительно подорвана. Он получал только те материалы, которые Сталин направлял по своему личному указанию, и касались они чаще всего «врагов народа». «Материалы рассылались для того, чтобы члены Политбюро видели, как опутали нас враги, окружили со всех сторон. Я тоже читал эти материалы, и у меня тогда не возникало сомнений в правдивости документов: ведь их рассылал сам Сталин! У меня и мысли не могло появиться, будто это — ложные показания».
На старости лет Никита Сергеевич Хрущев с воодушевлением вспоминал, как все они были тогда увлечены работой, совершенно не зная отдыха, как скромно жили: «То время, о котором я вспоминаю, было временем революционных романтиков. Сейчас, к сожалению, не то. В ту пору никто и мысли не допускал, чтобы иметь личную дачу: мы же коммунисты! Ходили мы в скромной одежде, и я не знаю, имел ли кто-нибудь из нас две пары ботинок. А костюма, в современном его понимании, не имели: гимнастерка, брюки, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, и вся наша одежда». Это действительно так. В личной жизни Хрущев, как и многие другие государственно-партийные руководители, был скромен, чуть ли не аскетичен.