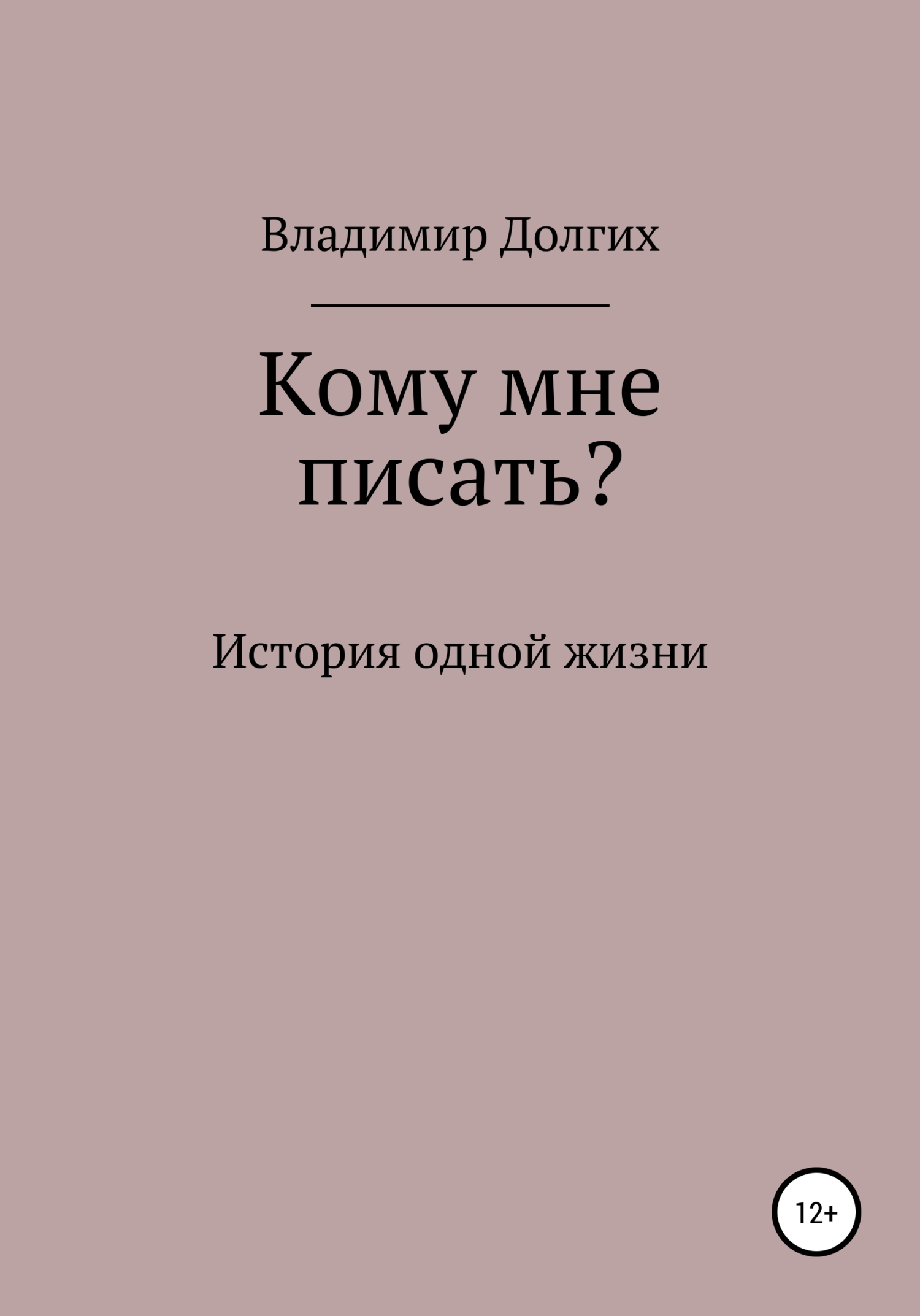всего ждали. Она здесь была не особо важна, стала лишь символом. И теперь, больше всего на свете нуждаясь в словах, мы с Мюриэл молчали. То, что было между нами, ушло за пределы привычной речи, и мы обе оказались слишком потерянными и испуганными, чтобы попробовать найти новый язык.
Мы вышли в свет с Джоан и Никки в честь дня рождения Никки. Ожоги заживали. К счастью, обошлось без инфекции, и я вернулась к работе, надев белую перчатку, чтобы спрятать уродливые шрамы вокруг запястья и на тыльной стороны ладони: они причудливо сплетались с новой, ярко-розовой кожей. Мать сказала, что хлопковые перчатки и ежедневное натирание маслом какао уберегут от грубых келоидных рубцов, – и оказалась права.
В последний раз мы с Мюриэл занялись любовью двадцатого мая. В ночь накануне заключительных экзаменов в колледже.
Дом стоял пустым, когда я вернулась туда на следующий день – пораньше, чтобы позаниматься. Когда уходила в ранней полумгле, чтобы сесть на поезд до Хантера, никого не было; когда пришла вечером и наконец легла спать, никто не так и не появился. Не с кем порадоваться, не с кем поволноваться из-за окончания первого семестра. Было очень одиноко.
Поняв, что у Мюриэл и Джоан любовная связь, мы с Никки предположили, что ничего путного из этого не выйдет. Ни Джоан, ни Мюриэл не работали.
Лето обернулось кошмаром разлук и завершений. Мюриэл уходила, и я не могла позволить ей уйти, как бы сильно ни хотела этого на самом деле. Старая мечта – навек вдвоем на фоне пейзажа – меня слепила.
По ночам покрытый ковром пол у моей одинокой постели был испещрен вулканами, и Мюриэл преодолевала его с ухарством и без предостережений. Я пыталась предупредить ее, но язык немел. Моя кровать была безопасной, но жизнь также была запутана там, куда она ступала. По линолеуму разливалась лава. Если бы она только сделала всё, как я хотела, если бы только услышала меня, прошла бы там, где среди пламени я различала тускло сияющие тропинки, – тогда мы бы обе были в безопасности, навеки. Боже милостивый, дай ей меня услышать, пока еще не поздно!
Но этот интимный и сложный менуэт мы исполняли бессознательно. Ни одна из нас не могла вырваться. Ни одна из нас не ведала механизмов, чтобы опознать или изменить шаги и тон нашего танца вплотную. Мы могли уничтожить друг друга, но не были способны продвинуться за пределы своей боли. Наше житье уже не было даже делом удобства, но ни одна из нас не была готова отпустить или признаться в том, что нуждается в этой опустошительной связи. Если бы мы это сделали, пришлось бы задать вопрос «почему»; очевидно, одной любви для ответа уже не было достаточно.
Большую часть своего времени Мюриэл проводила у Никки и Джоан в их новой квартире на первом этаже на углу Шестой улицы и Би-авеню. Когда мы оставались наедине, яд и обвинения выскакивали из моего рта, как дикие лягушки, и лавиной обрушивались на ее мрачную, неотзывчивую голову.
Не успело наступить летнее солнцестояние, как Мюриэл снова дико влюбилась. Лежа по ночам, я размышляла, как же потеряла свою девушку, да еще и с такой противницей, как стройная гибкая Джоан, с ее нерешительной улыбкой и ощущением неизбывного потенциала.
В день, когда я получила свои последние оценки из Хантера, в Польше начались восстания. Мы жили в польском районе, и, когда я забирала карточки с отметками из почтового ящика, округа полнилась волнением и тревогой. Я получила «С» по математике и «А» – по немецкому. Первая «А» в моей жизни не по английскому, а по другому предмету.
Конечно же, я была убеждена, что моей заслуги в этом нет. Как только мне удавалось преодолеть препятствие, оно из испытания превращалось в нечто ожидаемое и обыкновенное – не то, чего я добилась трудом и чем могла бы честно гордиться. Я не умела признавать свои триумфы и воздавать себе за них должное. Из-за этого оценка «А» превратилась из достижения, которое я заслужила своей тяжкой работой и учебой, в нечто такое, что просто произошло – наверное, немецкий внезапно стал легче для понимания, чем раньше. Кроме того, раз Мюриэл от меня уходит, я не могу быть человеком, который хоть что-то делает правильно, и уж точно не являюсь человеком, который получил «А» по немецкому благодаря своим усилиям.
Иногда я не могла уснуть. На рассвете ходила взад-вперед перед зданием, где жили Джоан и Никки, с захватанным острым ножом мясника в рукаве. Мюриэл была там и, скорее всего, не спала. Я не знала, что собираюсь предпринять. Чувствовала себя актрисой в плохо написанной мелодраме.
Мое сердце знало то, что голова отказывалась понимать. Наша совместная жизнь закончилась. Если не Джоан, то кто-то еще. Еще одна часть меня настаивала, что это не могло происходить на самом деле, пока видения убийств, смерти и землетрясений терзали меня во сне. Психический разлад разрывал мой мозг. Должно было быть что-то, что я могла изменить, чтобы всё исправить, прервать агонию утраты, вразумить Мюриэл. Если бы я только могла придумать слова убеждения, чтобы она поняла: всё это несуразное, абсолютно ненужное поведение. С этого можно было бы начать снова.
Иной раз ярость курилась сухим льдом, окутывая всё у меня перед глазами. Когда Мюриэл не являлась домой в течение нескольких дней, я рыскала по улицам Виллидж и разыскивала их с Джоан, подгоняемая эмоциональным тайфуном, который было не обуздать. Ненависть. Студеным ветром я металась по летним предрассветным улицам в облаке боли и бешенства – столь сильных, что ни один человек, будь он в своем уме, не посмел бы ворваться внутрь. В этих странствиях никто ко мне не приближался. Иногда я жалела об этом; мне мечталась причина кого-нибудь убить. Зато пронизывающие головные боли исчезли.
Я позвонила матери узнать, как у нее дела. Ни с того ни с сего она спросила о Мюриэл:
– Как там подруга твоя? Всё в порядке? – ну точно ясновидящая.
– Она ничего, – поспешно сказала я. – Всё хорошо, – лишь бы мать не узнала о моем провале. Этот позор непременно надо скрыть.
Наступила пора летних курсов, и я записалась на литературу и немецкий. Через две недели меня исключили: на занятия я не ходила. Теперь я работала в библиотеке по полдня, что означало меньше денег, но больше времени.
Я оплакивала Мюриэл с дикой скорбью, с какой никогда не горевала о Дженни. Второй раз в моей жизни случилось что-то невыносимое; я ничего не могла с этим