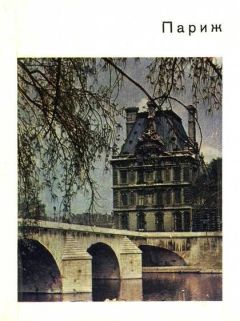Все это приводит к тому, что Пруст, не притязая быть социальным писателем, является им в неизмеримо большей степени, чем множество писателей отвлеченных, торжественных и пустых. «Я чувствовал, что не примкну к различным, некогда смущавшим меня литературным теориям, а именно к тем, которые критика разработала во время дела Дрейфуса, и вновь взяла на вооружение во время войны, которые пытались «вынудить художника покинуть его башню из слоновой кости», браться за сюжеты, лишенные фривольности и сентиментальности, изображать широкие рабочие движения, а за неимением толп описывать все же не никчемных бездельников («Признаюсь, изображение этих ничтожных людишек мне довольно безразлично», — говорил Блок), но благородных интеллектуалов или героев. Подлинное искусство не нуждается в стольких заявлениях и творится в тиши…»
Читатель, проявлявший любопытство к французскому обществу, находил его в этой великой книге таким, каким оно было с 1880 по 1919 годы, но целиком пронизанным прошлым, которое придавало ему значительность и красоту. Тот, кто искал общих истин о нравах, тоже не преминул найти их у самого глубокого моралиста из всех, что появлялись во Франции с семнадцатого века. Желавшие, подобно большинству читателей, обрести родственную душу, которая разделила бы их тревоги, находили ее в Прусте, и были признательны ему за то, что он помог им вступить в контакт с теми благочестивыми посредниками, какими предстают у него великие люди искусства. Без сомнения, реальность, которую они изображали, и которая принадлежала только им, была весьма особой, но разве люди не борются против одних и тех же
недугов, разве лекарства, которые им годятся, не всегда одни и те же? Ведь они — люди, и ни один из них не может оставаться безразличным к свидетельству человека добросовестного, «который озабоченно ищет путь собственного открытия, и натыкается на этом пути на все столбы, соскальзывает во все колеи, теряется на всех перекрестках».[238] Так же, как «Вильгельм Мейстер»[239] и еще полнее, чем романы Стендаля, «Поиски утраченного времени» кажется романом об ученичестве, в то время как он, подобно «Опытам» Монтеня или «Исповеди» Руссо, является суммой человеческого предназначения, метафизики и эстетики, так что англичане, американцы, немцы, ставившие эту огромную романную автобиографию выше Анатоля Франса, Поля Бурже, Мориса Барреса и всех французских писателей того времени, не ошибались.
Кто знает, не родится ли от этого брака со Смертью наше сознательное бессмертие?
Mapсель Пруст
Пруст питал к госпоже Катюс привязанность «сыновнюю», но проявлявшуюся периодически. Иногда он не писал ей по целому году, но любое затруднение с движимым имуществом оживляло эту заснувшую любовь. Стоило возникнуть подобной проблеме, и на госпожу Катюс обрушивался поток писем. Всякий раз, когда Пруст желал продать кресла времен Мальзерб-Курсель, или какой-нибудь родовой ковер, он устраивал «состязание» между госпожой Строс и госпожой Катюс, которые усердно соревновались между собой.
Пруст госпоже Катюс:
«Сегодня я получил от госпожи Строс письмо, где говорится, что брат английского торговца предлагает десять тысяч франков за диван и кресла… но не похоже, что он хочет гобелены и зеленый диван. Она собирается выставить гобелены на аукцион при посредничестве какого-то знающего человека, который советует не назначать цену выше четырех-пяти тысяч франков, потому что самый лучший сделан из двух разных кусков, и это частично снижает его стоимость. Я скажу ей добавить туда же зеленый диван…»
Пруст госпоже Катюс:
«(22 декабря 1917 года)…В том, что касается гобеленов, результаты, по моему мнению, отвратительны… и просто блестящи в отношении мебели, вашей мебели (потому что прибавочная стоимость, в сущности, должна принадлежать вам). Они (Стросы) продали одному покупателю два ковра за четыре тысячи франков — всего! Однако, дамы-антикварши оценивали их, кажется, выше, но все равно ниже… чем Берри и вы. Они продали диван и четыре кресла за десять тысяч франков (всего, вместе с двумя гобеленами, четырнадцать тысяч франков) они «надеются» продать зеленый диванчик за пять-шесть тысяч франков…
Пруст госпоже Катюс (май 1919 гола):
«Для меня было неподдельным горем услышать, что прекрасный и огромный Папин диван с улицы Курсель, почти новый, продался на аукционе за сорок франков! Люстра из столовой (которая была мне не так дорога, потому что не связана с воспоминаниями о вас, как диван) ушла за тридцать восемь франков!.. Но, поскольку в аукционном зале так повысили сбор, то могли ли торговцы желать лучшего? Драпировки с изображением растительности, настенные светильники, глубокое кресло, старый диван, найденный вами под завалами, и даже зеленый диванчик (без сомнения, не такой хороший, как глубокое кресло, но все же очаровательный) — это вещи, у которых должна быть почти твердая цена…»
В 1919 году он потерял свою квартиру на бульваре Осман, последнюю хрупкую связь с семейным прошлым. Его тетка «без предупреждения» продала дом, и новый владелец, банкир, решил выселить квартиросъемщиков. Любой переезд был для Марселя ужасной драмой. Кроме того, в течение нескольких недель он боялся, что ему придется заплатить квартирную плату за многие годы, которую не требовала его тетка, «по меньшей мере, двадцать тысяч франков зараз». Однако он продолжал называть себя, а быть может, и считать разоренным. Но преимущество тех, кто не умеет помочь себе сам, состоит в том, что они вызывают сострадание своих друзей. Пруст госпоже де Ноай: «Гиш божественно повел себя в этой жуткой истории с переездом: явился к управляющим, выбил из них деньги для меня (а я-то считал, что сам должен им) и обязал своего инженера отыскать фирму, способную обратить мой суберин в пробку…»
Дом на бульваре Осман после переделки был превращен в банк Варен-Бернье, и Марсель вынужден был его покинуть: «Увы! В этот момент я не смог бы дать вам адрес, потому что пока не имею пристанища. Я вынужден напоминать себе стих из Библии: «У лисиц есть норы, у птиц небесных гнезда, и только Сыну Человеческому не сыскать камня, чтобы преклонить голову…» Режан, случайно услышавшая эти сетования, предложила ему в доме, которым владела на улице Лоран-Риша, «убогую меблированную квартирку», в которой он прожил всего несколько месяцев, пока не обосновался наконец, в «гнусной меблирашке» на улице Амлен, в доме 44, на шестом этаже.