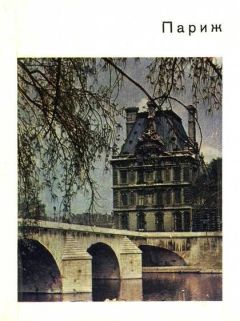Эта квартира, «столь же скромная и неудобная, сколь и непомерно дорогая», где близость Булонского леса обостряла его астму, должна была стать, по его мысли, лишь временным пристанищем. Он дожил там до самой смерти, поместив «все свои вещи» — остатки от ковров, люстр, сервизов и даже книг на мебельном складе. «Нет ничего более бедного, более голого, — говорит Эдмон Жалу, — чем эта комната, единственное убранство которой состоит в громоздящейся на камине груде тетрадей, заключающей в себе рукопись его произведения…» Со стен свешивались большие лоскуты оторванных обоев. Аскетическая келья мистика от искусства. «Когда тебе немного одиноко, — писал Марсель Роберу Дрейфусу, — скажи себе, что где-то далеко монах-бенедиктинец (чуть было не сказал кармелитка) думает о тебе по-дружески и молится за тебя».
С 1913 года хозяйство Пруста вела Селеста Альбаре. Это была молодая, красивая, хорошо сложенная женщина, говорившая на приятном французском, характер которой отличался спокойной властностью. Она вошла в жизнь Пруста, став женой Одилона Альбаре, чье такси было полностью в распоряжении Марселя, который пользовался им либо для того, чтобы выезжать самому, либо чтобы развозить письма для передачи прямо в руки, либо привозить тех, с кем ему вдруг пришла фантазия повидаться. Можно было бы спросить себя, как стерпел Марсель присутствие молодой женщины в своей комнате, но он мало-помалу привык к ее услугам и даже стал диктовать ей некоторые отрывки из своей книги.
Марсель Пруст госпоже Гастон де Канаве:
«Очаровательная и превосходная горничная, которая вот уже несколько месяцев является одновременно моим камердинером, сиделкой — я не говорю кухаркой только лишь потому, что ничего не ем — вбежала в мою комнату, крича от боли! Бедная молодая женщина только что получила известие о смерти своей матери. Она немедленно уехала в Лозер и оставила вместо себя свою золовку, которую я не знаю, которая более серьезна, не знакома с квартирой, совершенно не умеет находить мою комнату, если я позвоню, и не сумела бы заправить мою постель, если бы я встал. Надеюсь, мне удастся прийти к вам. Что же до обратного (ваш приход сюда), то это гораздо сложнее. Моя комната почти всегда заполнена густым дымом, что будет настолько же невыносимо для вашего дыхания, насколько необходимо для моего. Если бы моя горничная была тут, и если бы однажды атмосфера у меня дома стала пригодна для дыхания, я бы послал ее за вами (поскольку у меня больше нет телефона, и я, стало быть, не могу предупредить вас с его помощью). С атмосферой же сложнее. Однако, если через день-два у меня появится возможность не делать ингаляции… Но какое время вам подошло бы? Шесть часов вас устроит? Но тогда в котором часу мне надо будет предупредить вас (либо отправив за вами такси, либо послав позвонить вам — что, быть может, сложнее — от одного виноторговца, имеющего телефон)? Вы обещаете мне не обращать внимания на беспорядок в моей комнате, ни на тот, в каком я сам пребываю? Однако пока не вернется моя горничная, это будет весьма непросто…»[240]
Селесте был дан наказ никогда не входить к нему, пока он сам не позвонит, что случалось чаще всего около двух-трех часов пополудни. В этот момент он хотел получить свой кофе, такой же крепкий, как у Бальзака; если он запаздывал с пробуждением, Селесте приходилось готовить его помногу раз подряд, «потому что, — говорил он, — аромат выдыхается». Питался Марсель почти исключительно кофе с молоком. Порой (довольно редко) ему хотелось жареного морского языка или цыпленка, за которым он посылал к Люка-Картону (ближе к концу жизни — в отель «Риц»). Готовить пищу в квартире было запрещено, потому что легчайший запах вызывал у него приступ астмы. Еду для слуг приносили из ресторана «Эдуард VII» на улице Анжу, вот откуда почти невероятные издержки и относительная бедность этого богатого человека. Пруст не хотел также, чтобы у него дома пользовались газом для освещения или обогрева, и распорядился отсоединить трубы. Во всех своих письмах он жаловался на перегревавшийся калорифер, из-за которого он задыхался.
Рядом с его постелью помещался бамбуковый столик, его старая «шлюпка», на которой всегда стоял серебряный поднос с бутылкой воды «Эвиан», липовый отвар и свеча, которой надлежало гореть днем и ночью, чтобы он мог зажигать свои порошки для ингаляций. Спички запрещались из-за своего серного запаха. Селеста покупала свечи пятикилограммовыми ящиками. По другую сторону постели, на втором столике были Тетради, несколько книг, бутылка чернил и множество перьевых ручек. «Этот человек сам никогда ничего не делал. Если его ручка падала на пол, он ее не поднимал. Только когда все ручки оказывались на полу, он мне звонил… Приходилось каждый день перестилать постель и менять простыни, потому что ему казалось, будто они отсыревают из-за испарений тела. Чтобы привести себя в порядок, он порой изводил до двадцати с лишним полотенец, потому что, едва одно намокало или становилось чуть влажным, он уже не хотел к нему прикасаться».
Если Пруст работал или отдыхал, запрещалось беспокоить его ради чего бы то ни было. Каждый день он читал Селесте вслух свою почту, с комментариями, по которым она должна была чутьем угадывать, согласится он или нет принять ту или иную особу; назначит ли свидание, пообедает ли вне дома, или поужинает в ресторане. Именно она общалась с внешним миром, ходила звонить по телефону в соседнее кафе, к «людям из Пюи-де-Дома». Селеста переняла у Марселя много его привычек, манеру строить фразу, вплоть до интонаций голоса. Она, как и он, передразнивала его друзей. «Когда на следующий вечер Селеста открыла мне дверь, — рассказывает Жид, — то, передав сожаления Пруста о том, что он не смог меня принять, добавила: «Хозяин просит господина Жида убедить себя, что он беспрестанно думает о нем». Я тотчас же записал эту фразу…»[241]
Через некоторое время она привела свою сестру, Мари Жинест, и племянницу, Ивонну Альбаре (эта последняя печатала на машинке), чтобы помочь ему в работе. Часто по вечерам Пруст собирал в своей комнате всех этих молодых женщин, которых сопровождал шофер Одилон, и читал им курс по французской истории. Как любили они слушать лекцию о Святом Андреев-Полях из уст самого создателя этой вымышленной церкви с фигурами прямо на портале! Язык Селесты и ее родни очаровывал Марселя:
«С фамильярностью, которую я не смягчаю, несмотря на все похвалы (приводимые здесь не ради моего хвастовства, но чтобы воздать должное своеобразному гению Селесты) и упреки, столь же незаслуженные, но очень искренние, которые в этих речах, похоже, касались меня, Селеста говорила, пока я обмакивал свой рогалик в молоко: «О! Что за чертенок, волосом-то прямо сойка! У, лукавец этакий! Уж и не знаю, о чем ваша матушка думала, вас зачиная, да только вы вылитая птица. Глянь, Мари, разве не похоже, будто он перья себе чистит, да еще и гибко так шеей вертит, с виду легонький, можно подумать, летать учится? Ах! Еще повезло, что те, кто вас на свет произвел, дали вам среди богатых уродиться! Что бы с вами стало, с этаким транжирой? Ну вот, теперь рогалик свой бросил, потому что тот постели коснулся. Нате вам! Еще и молоко разлил! Погодите, я вам салфетку повяжу, потому как сами-то, небось, не сумеете; отродясь такого глупого неумехи не видала». Тут слышался мерный гул стремительного потока. Это Мари Жинест обрушивалась на сестру с гневной укоризной: «Ну, хватит, Селеста, умолкни! С ума, что ли, сошла, с хозяином так разговаривать?» Селеста в ответ лишь улыбалась, а поскольку я терпеть не мог, чтобы мне повязывали салфетку, продолжала: «Нет, Мари, ты взгляни на него; бац! напыжился-то как, будто змея. Змея — точно тебе говорю…»