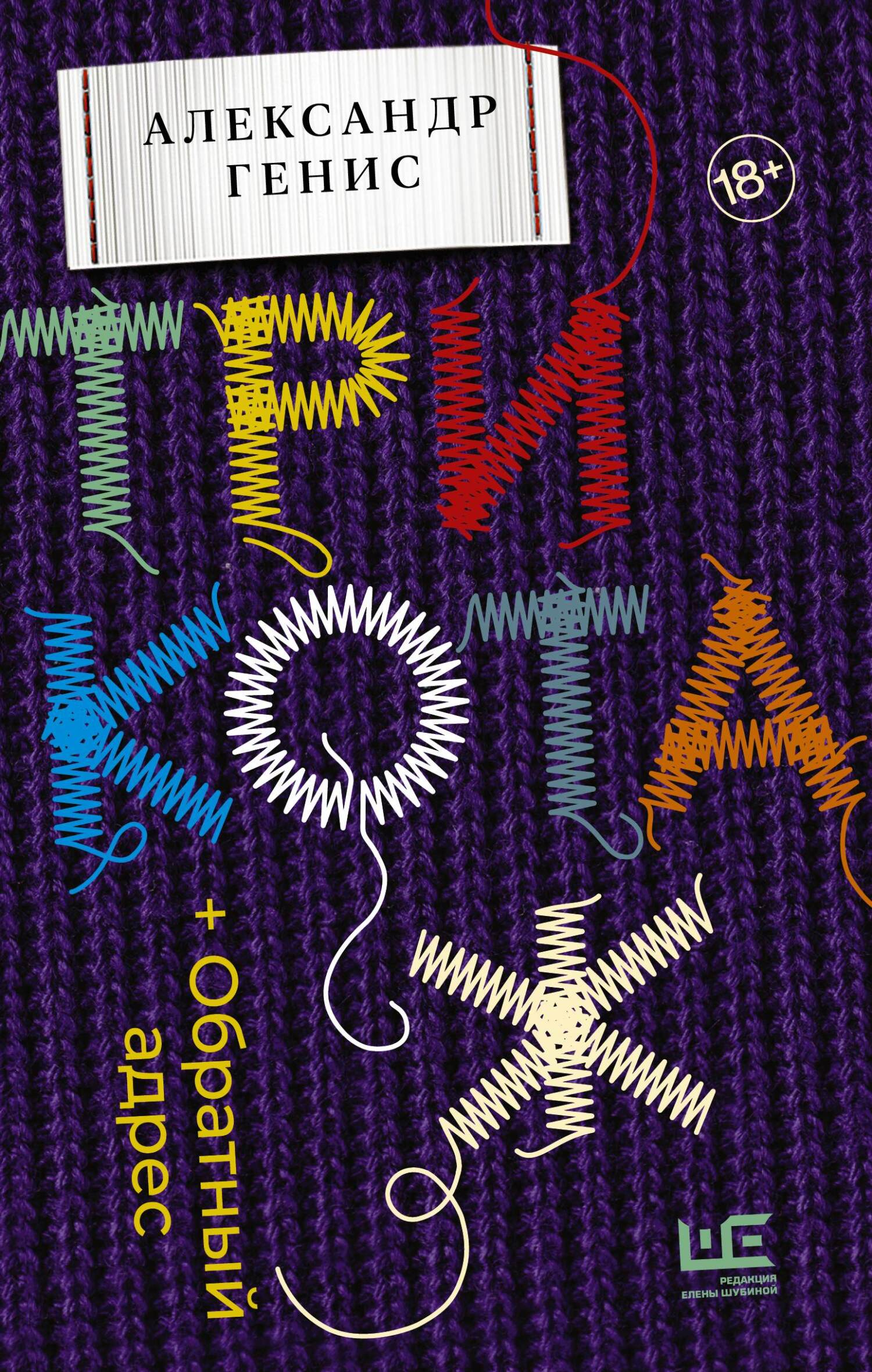Даже без шпаги Сорокин походил на Атоса: красив, задумчив, молчалив. Мы встретились в отеле “Пекин”, в номере с балдахином, графином и неизбежной “Алёнушкой”. К тому же в гостинице на каждом этаже сидела не спавшая всю ночь коридорная. Наша стерегла открывашку для “Нарзана”.
Сорокин цедил слова. Отчаянно заикаясь, он говорил важное и коротко.
– В раннем детстве, – рассказывал Владимир, – в нашем дворе была открытая выгребная яма, омерзительная, но и отойти трудно. Так и живу.
– А не пугает?
– Когда пишешь, не страшно. А если посадят, то в зоне узнаю новые слова.
Собственно, все мы не умели прожить дня, не поделившись очередной гадостью власти. Но Сорокин не видел выхода. Хотя его мир тоже делился на два, ни в своем, ни в заграничном не находилось постоянного места, и с этим вынуждены были считаться его читатели.
– Мы, люди, – пациенты онкологического отделения. В одной палате – цветы, медсестры улыбаются, в другой – окна с решетками и санитары с наколками, но конец один, и это единственное, что мы знаем наверняка.
– Метафизика рождения и смерти, – поддакнул я, чтобы что-то сказать.
– Про первое, – возразил Сорокин, – нас никто не спрашивал, а от второй мы всю жизнь пляшем.
Для пессимиста и скептика он писал слишком темпераментно, и я не все его книги давал жене, чтобы не пугать кошмарами, от которых не мог оторваться, как автор – от той самой ямы.
– Как Сорокин не боится? – удивился Синявский, зная по опыту, что написанное имеет обыкновение сбываться.
– Чепуха, – отмел вопрос Сорокин, – буквам не больно.
Перед отъездом мы решили устроить отвальную и пришли в “ПИК” за второй половиной гонорара. На этот раз мы взяли специально купленную для денег клеенчатую сумку с олимпийским мишкой. Но издательство – и люди, и офис с табличкой на двери – исчезло вместе со всем нам причитающимся. Ни писателей, ни кооператоров, ни Юнны Мориц, которая свела нас с ними, я больше не встречал. Что, надо сказать, не отразилось на судьбе “Русской кухни в изгнании”. Эту заразную книгу не устают издавать, иногда не спрашивая авторов.
С трудом вернувшись в Нью-Йорк, я понял, что Россия, как айсберг в “Титаник”, врезалась в жизнь, перевернув ее на попа.
1
Вернувшись из отечества, мы почувствовали, что соавторство стало нас тяготить, как нагота – Маргариту после бала у Воланда.
На то были мириады причин, но главная скрывалась от нас обоих. Теперь я думаю, что за тринадцать лет (столько же писали вместе Ильф с Петровым) наша парная личность просто сносилась от безжалостной эксплуатации. Маска была уместна на карнавале, но следующим утром она выглядела глуповато.
– Праздник чувства окончен, – любил с надрывом цитировать Надсона мой отец, убирая со стола пустые бутылки, – погасли огни, сняты маски, и смыты румяна; и томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана.
Литература была нашим капустником и субботником, и мы категорически отказывались принимать ее и себя всерьез. Нас звали “ребята” и никогда – по отчеству, ибо у Вайля не было костюма, а у меня и пиджака. Но когда у Пети поседела борода, а мой сын пошел в школу, богемный статус стал натужным и нарочитым. В детстве я видел, как взрослые танцевали твист: они плясали слишком старательно.
Не обошлось и без советской власти. Сходя на нет, она умирала, как мы жили: хихикая и ёрничая, особенно – в отвоеванных у партии газетах. Лучшая из них – “Независимая” – выходила под тацитовым лозунгом Sine ira et studio и печатала не только актуальное, но и сокровенное. Например, занявший целую полосу виртуозный психоаналитический этюд, в котором автор, Борис Парамонов, выступал в своем излюбленном жанре “парад эрудиции”. Опус назывался “Говно” и не оставил никого равнодушным.
Как и для перестроечной прессы, соавторство для нас было стёбом: продолжением свободной пьянки на территории солидного противника. У этого досуга, однако, оказались серьезные последствия, и я говорю не о книгах. Соавторство подразумевало (1) общность реакций и впечатлений, (2) симметрию поведения, (3) неизбирательное сродство и (4) взаимозаменяемость.
Первое означало, что нельзя писать одно, а думать другое и по-разному. Второе требовало от меня целовать дамам ручки, если так поступал подлиза Вайль. Третье объяснялось тем, что нам нравилось то же самое: еда, античность, смешное. В-четвертых, практика выковала общий стиль, которым мы пользовались по очереди, с трудом отличая себя от друга.
От всего этого Довлатов приходил в ужас, считая преступлением делить, а не умножать личность. Сам он не любил псевдонимы и лишь в исключительных случаях подписывался инициалами С. Д.
Все, что не есть Я, – то кричит, то шепчет его проза, – мне не принадлежит и читателей не касается.
С тем бо́льшим неодобрением Довлатов следил за тем, как, веселясь и ухая, мы добровольно отдаем половину себя другому.
– Это все равно, – ворчал он, – что делить невесту.
Кроме того, мы уже написали то, что собирались, и немало из того, что хотели. Теперь нам предлагали тиражировать жанр и сочинять все, чего от нас ждали: вторую “Родную речь”, не говоря уже о “Русской кухне”.
Более того, мы добились своего. Однажды нас узнали на улице в Париже. Патриоты напечатали фельетон “Барыги с Брайтон-Бич”. В русском Нью-Йорке нас дразнили, пародировали и путали.
– Умно, – хвалил Дмитрий Александрович Пригов, – двоих запомнить легче, чем одного.
– Какой у вас маркетинг? – интересовался изощренный филолог Жолковский, от которого я впервые услышал это слово.
Говоря короче, мы слили две фамилии в одну, и нам она надоела. Но разлепиться оказалось труднее, чем сойтись. Вначале-то мы ничем не рисковали, теперь нам мешала конкуренция: общее наследство в шесть книг, одна из которых вышла тиражом в 100 тысяч и была рекомендована средним школам, видимо, для изготовления шпаргалок.
– Раньше был один писатель, – нашелся Петр, – теперь их стало трое: Вайль-и-Генис, Вайль, Генис. Первый бросал вызов остальным, и прежде всего мы постарались разойтись подальше. Вайль решил полюбить джаз, я – одиночество.
Мне было проще. Всю жизнь я обходился без записной книжки, редко звонил и не писал письма, а только подписывал их. В нашем камерном государстве обходительный Вайль был министром внешних сношений. Я всё еще прятал застенчивость разночинца за хамоватыми манерами и вступал в общение после Петиной увертюры – на всё готовое.
Но теперь демократия кончилась, я стал абсолютным монархом себя, и это значило, что молодость прошла. Она и так тянулась дольше, чем положено.
2
Итут зазвонил телефон.
– Сэр Майкл, – представились на другом конце.