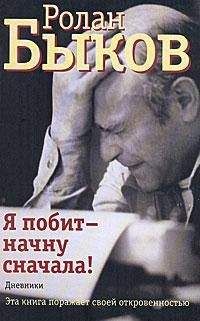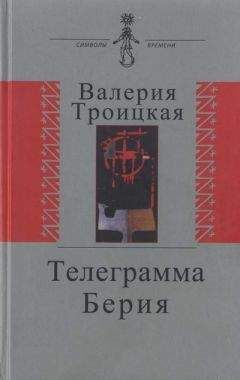23.03.84 г. (Ночь)
Как замечательна ветла, И дуб, и пальма, но поверьте, Что мне сейчас нужна метла, Чтоб было чисто перед смертью! Но мне сейчас нужны дрова И кипятка крутого чашка. Что мне великие слова, Когда мне сумрачно и тяжко!
* * *
Моя дорога коротка —
Мой путь - длинней.
(А у недописанных строк есть своя прелесть — обещание, точнее, что-то оракульское. В них тайна, в них возможности.)
Вызвал Ермаш — делай поправки. (Перед этим он отказал дать копию в «Знания», сказав: «Быков не является на студию, но пока он не сделает поправки»...) Моя надежда на то, что у него и Сизова разная игра — опять наивность. Я потерял уйму времени. Опять не был активен.
Поправки он дал столь незначительные, что диву даешься. Сначала их было три: 1. Сократить битье ногами. 2. Сократить костер. 3. Убрать один раз директрису.
Я отбил первое и третье замечание. Осталось сократить костер.
Сократил на 2 метра. (!) Отрезал фальшивую черную проклейку, которую был вынужден вставить, — всего убрал 11 метров.
Вечером Досталь сказал, что ему нужен приказ о новой редакции. Тут — стоп! Не уловка ли это опять? Если новая редакция — все сначала?! Опять студия будет принимать? Э-э, нет! Тут уж Сизов выспится на мне как надо. Это все его, сизовские, дела. Ермаш сказал: «Сделай то, что мы обещали Сизову». (Стало быть, этот старый лис сказал Ермашу, что он со мной о чем-то договорился?)
Я категорически откажусь делать что бы то ни было, если разговор будет о новой редакции. Иначе хана.
Я должен прийти к Ермашу и сказать: «Отчего у Евтушенко нет новой редакции?». Не нужен мне ни черт, ни дьявол, ни перезапись, ни озвучивание. А эти копии могут остаться и с подрезками, я берусь сделать вырезки в копиях.
Если же речь идет о новой редакции, давайте утвердим две серии, вернем 150 метров и будем ее делать[122].
Так или иначе, идет интрига старого милиционера[123]. Не мытьем так катаньем берет он реванш за поражение. И это надо бы объяснить Гришину. Он и с Ермашом договорился, а тот ему потрафил. Вот отчего и нетверд был Ермаш в своих претензиях.
24.03.84 г.
Подготовка статьи о Гоголе
Новое время — это не только рождение нового, это и новый взгляд на старое. Художники, уходившие в свое время на столетия вперед, не становятся нашими современниками — они открываются настолько по-новому, что это разрушение в нас самих. Эта перемена разрушительна.
Сегодня, уже не боясь «гоголеведов», можно смело говорить, что Николай Васильевич Гоголь — писатель, на сегодня еще не изученный.
(Ой, тяжко! Оттого что нет свободы внутри!)
(Так, наверное, вопрос ставить невыгодно. Но мысль о том, что это самый непонятый русский гений, очень важна. Очень важна и мысль о полном взгляде на вещи. — Хотелось бы смазать по мордасам Рассадина[124].)
Прочтение Гоголя Андреевым и современным скульптором: «Сегодня он встал, поднять-то можно, хоть и грешно...»
Непонимание бывает разного рода — враждебное и влюбленное, тенденциозное и абсолютное, естественное и противоестественное, историческое и национальное. Сподручней всего непониманию быть скромным, но сегодня непонимание поразительно наглое, тупое и даже полицейское.
Непонимание Гоголя все время имеет характер присваивания Гения. Его присваивали славянофилы, богоискатели, фрейдисты. Его присваивали все кому не лень, отщипывая от него по кусочку, клали его величие подставкой для сковороды с наскоро приготовленной яичницей безглазого литературоведения.
Можно, конечно, нарядившись в пару «джинсовых» фраз, этаким «гоголем» пройтись по колонкам «Литгазеты» — как это сделал ушлый критик С. Рассадин, обнаружив глубину знания, и в порядке откровения процитировать Николая Васильевича (какое-нибудь самое известное высказывание).
Минуя доводы, сразу кинуться к выводам.
Смысл статьи таков: пришло время разобраться в Гоголе. И вовсе не как в сатирике, а как в лирике. Как в особом направлении гуманизма материнского[125], взамен отцовского (Толстого). Пришло время открывать подлинного Гоголя как отца натуральной школы, как художника, давшего программу всему современному искусству.
Перед Гоголем люди до сих пор в оторопи.
Гоголю в кино «повезло»: дважды экранизировался «Ревизор», были сняты знаменитые «Мертвые души», поставленные во МХАТе. А сейчас на «Мосфильме» выходит 8 (6) серий «Мертвых душ» с Калягиным — Чичиковым. Дважды ставилась «Шинель», поставлена «Майская ночь», «Нос».
Так случилось в моей жизни, что я в разные периоды своего творческого пути сталкивался с Гоголем. Это был спектакль в письмах и воспоминаниях (тогда еще такой жанр не входил в обиход и не был модой), в училище я играл «Тяжбу» и Добчинского в «Ревизоре», в театре первым эпизодом был Мишка в «Ревизоре», потом снова Добчинский, и даже сам Хлестаков (2 акта — перед худсоветом) и снова «Тяжба». Наконец, были «Шинель», Акакий Акакиевич, работа над «Ревизором» (поставил Л. Гайдай) и «Нос» на ТВ.
Что есть мой Гоголь?
Гоголь — это для меня проблема взаимоотношений кинематографа и литературы.
Гоголь — это открытие идей «полного взгляда на вещи».
Гоголь — это открытие сложных отношений художника и времени, гения и толпы, прошлого и настоящего.
Гоголь — это предвосхищение нашего сегодня, невыполненное задание дней сегодняшних и завтрашних.
Гоголь — это открытие материнского гуманизма. И т.д. и т.д. (не перечислить!)
Наверно трудно писать о своем Гоголе, ибо кто сегодня может интересоваться тем, что «давно известно каждому»: «Все мы вышли из Гоголевской шинели», «смех сквозь слезы» — небольшой набор нашего утлого «знания» великого классика загораживают от нас фигуру грандиозную, фантастическую, непонятую, фальсифицированную, драматическую, сегодняшнюю и завтрашнюю.
Гоголь шел от тайны жизни к ясности и от ясности к новой тайне.
Не понимать артистической, именно актерской, лицедейской природы творчества Гоголя — это ничего в нем не понимать.
Зачем ставить «Нос»? Кроме всего еще и затем, что школярское представление о классике и развязное суждение какого-нибудь «эрудита» в равной степени отвращает людей от классики...
«Нос» Д.Д. Шостаковича — грандиозное произведение. Вот бы достало Д.Д. Шостаковичу от критиков: «Там не только "Ковалев умирает", там с торговкой бубликами что делается, а нос убивают...», чтобы сделать реальным его возвращение.
Но самое прекрасное — это раскрытие страдательности фигуры Ковалева. Хочет этого кто или не хочет, но Ковалева становится жалко, и он попадает в положение Акакия Акакиевича. Он проходит тот же путь: частный пристав его поносит, значительное лицо его вообще не принимает, никто не хочет и не может его понять. Вот в чем «отдельность», «разобщенность». (Для С. Рассадина застолье и распитие — уже близость и даже братство, это от нищенства.)