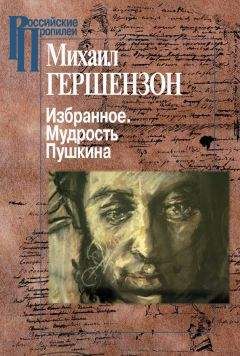Не только отдельное чувство твердеет, по мысли Пушкина: неподвижным становится и весь дух в целом. Такое общее состояние духа Пушкин определяет как его окаменение, часто указывая и причину этого явления, именно – убыль тепла:
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
(«Евгений Онегин», VI).
Во дни гоненья – хладный камень{146}
(«Кавказский пленник»).
На поединках твердый, хладный
(Там же).
Но все прошло, остыла в сердце кровь…
Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет
В ней чувств уж нет.
Так легкий лист дубрав
В ключах Кавказских каменеет.
(«Ты прав, мой друг»).
Цветок полей, листок дубрав
В ручье Кавказском каменеет:
В волненьи жизни так мертвеет
И ветреный, и пылкий нрав
(«Альб. Онегина»).
Здесь речи – лед, сердца – гранит
(«Ответ»: «Я вас узнал» [Е.Н. Ушаковой]).
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства
(«Братья разбойники»).
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас
(«Чернь»).
Для нежных чувств окаменел
(«Кавказский пленник»).
Окаменел мой дух жестокий
(«Братья разбойники»).
сердце старика,
Окаменелое годами
(«Полтава»).
К тому ж и без речей рыдающая младость
Мягчит сердца людей
(«Анджело»).
Режь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня
(«Цыганы»).
Точное различение трех физических состояний души в поэзии Пушкина не подлежат сомнению. Оно до такой степени привычно ему, что он изображает эти формы и их превращения одна в другую так, как если бы речь шла о явлениях общеизвестных, нимало не подозревая головокружительной смелости своих образов и речений. Он пишет:
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье…
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть…{147}
то есть вдохновение – пламенно-газообразно: оно летает; воображение – жидкость: оно волнуется под действием жаркого вдохновения: и вся душа в целом подвержена обычным температурным превращениям жидкости: она остывает в жидком виде, потом все более сгущается, и наконец твердеет. Для Пушкина «огонь душевный» – синоним чрезвычайной подвижности духа, то есть быстрой смены чувств; напротив, твердое состояние души – косность души. Из этого представления естественно вырастает такой образ:
Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное.
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами:
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет{148} —
точное изображение раскаленного камня. Пушкин точно различает три состояния ума: газообразное, когда «ум далече улетает»; жидкое, когда «ум кипит» или «взволнован», например, сомненьем (полужидкое – «ум, еще в сужденьях зыбкий»), и твердое, когда ум «твердеет в умысле своем». В тех же трех формах он изображает отдельные мысли или «думы»: думы газообразные, летящие по воздуху; это думы наиболее интимные, «думы сердца», по его любимому выражению: «Все думы сердца к ней летят», в отличие от дум более плотных, находящихся в жидком состоянии, например:
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье{149}
и наконец, от дум еще более плотных, тяжкой массой «теснящихся в уме» или даже лежащих в уме, как «груз». В своем безотчетном созерцании, которое само клокочет огнем, Пушкин смешивает все обычные представления, опрокидывает установленные понятия и, как вулкан, выбрасывает наружу речения ослепительные и неожиданные; он способен сказать:
А в сердце грех кипел…{150}
Мечта знакомая вокруг меня летает…{151}
Мечты кипят…{152}
Ты лесть его вкусил, земных богов напиток{153}
И т. п.
Мне остается рассмотреть последний отдел психологии Пушкина – его представление о человеческой речи. Легко заметить, что высшее, огненное состояние духа, и низшее, окаменелость духа, представлены у него неизменно бессловесными. Ангел молчит, Мария в «Бахчисарайском фонтане» молчит; мало говорят Анджело и Мазепа. Только среднее, жидкое состояние духа – «кипение» или «волнение» духа – есть, по Пушкину, исток слова: жидкое чувство как бы непосредственно изливается жидким же словом. Характерна одна его описка в черновой, противоречащая его собственному словоупотреблению:
И словом – искренний журнал,
В который душу изливал
Онегин в дни свои младые…
Здесь отчетливо нарисована картина чувства, изливающегося словом. Наоборот, в другой раз Пушкин изобразил речь жидкостью, льющеюся в душу слушателя:
что иногда
Мои небрежные напевы
Вливали негу в сердце девы
(«Не тем горжусь я», черн.).
Этот образ речи-жидкости так внедрился в его сознание, что он безотчетно употребляет в серьезном, даже трагическом повествовании оборот, который можно принять за каламбур:
Полны вином, кипели чаши,
Кипели с ними речи наши
(«Полтава»).
как в другом месте шутя:
вечера
Где льются пунш и эпиграммы
(«В. В. Энгельгардту», черн.).
Этот образ внушает Пушкину такие речения, как «здесь речи – лед», то есть замерзшая жидкость, или сравнение благостной речи с елеем:
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
(«В часы забав»).
Речь, как душевный поток, разумеется, несет то самое количество жара, какой присущ духу, изливающемуся ею. Пушкин так изображает музыку Россини:
Он звуки льет – они кипят,
Они текут, они горят…
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые
(«Путешествие Евгения Онегина»).
и точно так же – поэзию Языкова: