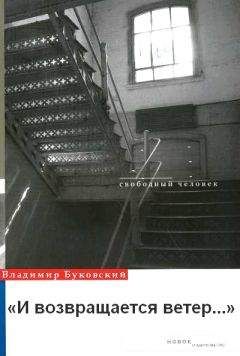В кодексе я вычитал, например, что имею право делать замечания на действия судьи и требовать занести мои замечания в протокол. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь с принятия кодекса этим правом пользовался, — конечно, судья эту статью не помнит. Нельзя такой прием применять до бесконечности — он перестанет производить впечатление, и я решил, что воспользуюсь им 5–6 раз, а затем внезапно, посреди процесса, заявлю ходатайство об отводе судьи: обобщу все свои замечания и объявлю, что действия судьи доказывают его пристрастность и заинтересованность. Процедура отвода судьи обещала быть забавной. По закону судья не может принимать участие в разрешении такого ходатайства — это ведь ему выражено недоверие. Заседатели вдвоем, без судьи, должны пойти в совещательную комнату и там одни придумывать формулировку — решение должно быть мотивированным. Заседатели же обычно люди, совершенно неграмотные юридически, безынициативные и покорные, — заранее можно было предвидеть, какую чушь они понапишут в своем определении, оставшись без диктовки судьи. А судья тем временем обязан покинуть свое председательское место и сойти в зал. Словом, процедура достаточно унизительная, чтобы сбить спесь с любого самого наглого судьи.
И еще много таких, сроду не слыханных трюков я себе заготовил заранее. Применять мне их, однако, не пришлось, и все прошло более гладко, чем я ожидал.
Судить нас должны были троих: Делоне, Кушева и меня. (Хаустова судили задолго до нас, так было удобней властям: его еще кое-как можно было обвинить в «сопротивлении представителям власти». Дали три года. А нас, кроме самого факта демонстрации, обвинить было вовсе не в чем, поэтому оттягивали суд, как могли. Всё надеялись хоть что-то найти!)
30 августа с утра нас привезли в Московский городской суд, на Каланчевку, и посадили в подвал, в специальные камеры. К десяти часам конвойные провели нас в зал, на скамью подсудимых.
Я ужасно нервничал и боялся, что не сумею провести процесс, как мне хотелось бы, растеряюсь, нечетко сформулирую свое выступление. Ведь я ждал этого суда как праздника: хоть раз в жизни есть возможность громко высказать свое мнение.
Но стоило попасть в этот зал, с его типичным для присутственных мест невыразимо пошлым запахом, нелепой окраской стен, казенными стульями и грязными потолками, как все напряжение спало. Никакой торжественности, праздничности, трагичности — обычная казенщина, канцелярская скука и безразличие. Особенно насмешило меня, что на высокой судейской трибуне прямо под массивным гербом Советского Союза какой-то шутник нацарапал крупно то самое слово из трех букв, которое украшает все заборы, общественные уборные и школьные парты. Под этим-то знаком зодиака и проходил весь наш суд.
Судья, женщина лет 45, вовсе не злобная и не наглая — скорее даже приветливая, — отправляла правосудие с тем же привычным автоматизмом, с каким священник служит обедню. Для нее это был просто очередной рабочий день. Заседатели откровенно дремали, подперши головы руками, конвойные зевали, а в зале сидели чекисты в штатском, изображая публику.
Тысячи наголо стриженных людей серой чередой прошли через этот зал, перед глазами этих судей, заседателей и конвойных, получили свои унылые приговоры — кто 5, кто 15, кто 10, кто расстрел — и исчезли. Хорошо было поэтам древности сочинять свои оды об узниках в живописных лохмотьях, гремящих цепями, о мрачных темницах и кровавых палачах. Теперь и казнят-то не на плахе, где можно было хоть, оборотившись к народу и в пояс поклонившись на все стороны, взвопить:
— Люди добрые! Вот вам крест святой, ни в чем я не виноват! — И подставить шею палачу: — На, руби, нехристь! Теперь это, наверное, как товар со склада отпустить: — Распишитесь здесь, тут и вон там. Встаньте к стенке. Готово. Следующий. — Зевнет и посмотрит на часы — скоро ли обеденный перерыв?
Какие там оды или баллады — так, слово из трех букв. Самая подходящая поэма.
И глядя на этот убогий суд — не то что речей произносить, вообще рта раскрывать мне не захотелось. Ну, разве не противно делать вид, что принимаешь всю эту комедию за чистую монету?
— Граждане судьи… Гражданин прокурор… Граждане свидетели…
У них готовый приговор в кармане, только подпись поставить осталось. Монотонные вопросы, монотонные ответы — все известное, подготовленное заранее: «Обвинение непонятно. Виновным себя не признаю». Скука смертная.
Спас меня прокурор. Больно уж подлая была у него морда, и когда он с пакостной ухмылочкой стал говорить, «то за семь месяцев в тюрьме можно бы, дескать, и переменить свои взгляды, — мною овладела вдруг тихая ярость. Экая гнусная душонка, протокольная харя. Всех по себе меряет. Тебе бы небось и одного дня в тюрьме хватило, чтоб мать родную продать! Ну, ты у меня взмокнешь сейчас.
Дальше все пошло как по писаному. Судья пыталась перебить меня несколько раз, но я был готов к этому и запустил в нее припасенной статьей. Она действительно слегка опешила и потом все три дня процесса почти не перебивала меня, так, только для формальности, чтобы выговор от начальства не получить. Отвода заявлять не пришлось.
Потом пошел допрос свидетелей — тех самых «представителей власти», которые у нас вырывали лозунги, и мы с адвокатами навалились на них — только пух полетел. Как ни инструктировал их КГБ, выглядели они бледно. Все «дружинники» признались, что повязок у них не было. Никаких «нарушений общественного порядка» они описать не могли, а некоторые проговорились даже, что их заранее предупредили о готовящейся демонстрации и послали разгонять ее. Выглядело все это смешно.
— Так почему же вы вмешались? — спрашивали адвокаты. — Только из-за того, что увидели, как подняли лозунги?
— Да.
— А что было на этих лозунгах?
— Какие-то фамилии…
Содержания они не видели. Да и не могли видеть — бросились они на нас сбоку.
Милиционеров даже побоялись вызвать в суд — уж больно неприятные для КГБ показания дали они на следствии.
На второй день пошли допросы наших друзей, участников демонстрации. Все держались отлично, и мои ребята приободрились. Все-таки легче, когда видишь знакомые лица. Самое поразительное было то, что свидетелей после допросов не удаляли из зала. Они оставались сидеть и, естественно, старались все запомнить.
На третий день были прения сторон. Прокурора так прижали в угол, что он вынужден был заявить: нарушение общественного порядка состояло в самом факте демонстрации. Тут уж взвыли адвокаты — а как же Конституция?! Окончательно запутавшись, прокурор заявил: — нельзя требовать освобождения лиц, арестованных КГБ. Это подрывает авторитет органов; — нельзя требовать пересмотра законов; — можно выражать несогласие с действиями властей только «в установленном порядке» (что это за порядок, он так и не объяснил). Иной способ и будет нарушением общественного порядка.