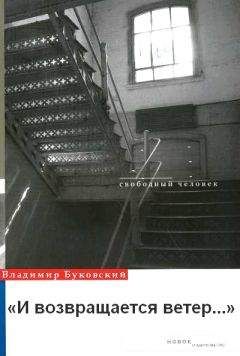С юридической точки зрения все сказанное им было совершеннейшей чушью, и выглядел он жалко. Каминская не оставила камня на камне от этой нелепой аргументации, и даже остальные адвокаты просили оправдания для своих подзащитных. Мои ребята настолько повеселели, что в последнем слове хоть и выразили сожаление о случившемся, однако вины не признали. Я говорил долго — слишком долго для такого суда. Но сказал все, что хотел. Тряс под носом у прокурора трехкопеечной Конституцией, метал громы и молнии и под конец обещал им после освобождения устроить новую демонстрацию.
Должно быть, я говорил очень резко, потому что, оглядываясь время от времени на зал, я с удивлением замечал испуганные лица друзей и совсем посеревшее лицо матери, точно на их глазах происходила катастрофа. Лишь один Алик Вольпин удовлетворенно кивал головой, будто ничего не происходило.
Как и следовало ожидать, формулировки приговора ничем не отличались от обвинительного заключения — словно и не было трех дней этого нелепого суда. Мне выписали запланированные три года, а ребят отпустили из зала — дали по году условно. На прощанье мы обнялись. Я знал, что им будет труднее, чем мне. Свобода иногда тяжелее тюрьмы, и после раскаяния, которое они демонстрировали в суде, им предстояло каяться еще и еще, да только уже всерьез. Дай Бог, чтоб они нашли в себе силы пережить это и остаться людьми.
Возвращался я в тюрьму уже один. На пути от здания суда к воронку (в закрытом внутреннем дворе) кто-то из друзей сверху, из окна, бросил мне на голову целую охапку васильков, даже конвойных засыпало. Так и приехал в камеру с васильками.
— Что это? — насупил брови Петренко. — Цветы? Ну-ну… — И больше ничего не сказал, отвернулся, хоть цветы в тюрьме и «не положены».
А через два месяца объявили амнистию к 50-летию советской власти, и в Указе Президиума Верховного Совета было сказано, что эта амнистия не распространяется на осужденных «за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок». Целых три лишних строчки в указе, а сидело нас тогда по этой статье только двое на всю страну; Хаустов и я.
И еще было странное последствие — внезапно ушел в отставку мой давнишний приятель, начальник Московского КГБ генерал Светличный, злой головастый карлик. И в роскошном особняке графа Ростопчина только дамы в кринолинах перешептывались с господами в пудреных париках, глядя ему вслед с полупрезрительной усмешкой.
Я уже был в лагере, когда в январе 68-го прошел суд над Галансковым, Гинзбургом, Дашковой и Добровольским — еще одна отчаянная попытка властей запугать интеллигенцию, навязать ей свои представления. И если наш суд официальная пропаганда предпочла обойти молчанием — так, маленькая заметочка в «Вечерней Москве», то «процесс четырех» проходил под оглушительный вой советской прессы. Вновь, как и по делу Синявского и Даниэля, была инспирирована кампания всенародного осуждения — гневные письма «трудящихся»: доярок, ткачей, оленеводов и красноармейцев.
Власти опять пытались представить дело так, будто судят не за убеждения, а за «заговоры», «тайные связи с подрывными центрами» и «клевету». Но это — на экспорт. Своим же откровенно грозили — видите, что с вами будет!
Еще раз, как на суде Синявского и Даниэля, столкнулись две точки зрения, два понимания, два способа жить: потаенный, подпольный, раздвоенный — и открытый, апеллирующий к закону, активно отстаивающий гражданские права. Этот процесс с необычайной ясностью продемонстрировал союз подпольной психологии и официального произвола: одно без другого существовать не могло. Не случайно именно в этой психологии искало и находило опору обвинение. Что такое «антисоветская литература»? Что такое сама советская власть? Что можно читать, а чего нельзя? Где грань между «критикой» и «преступлением», конституционным правом и «подрывом советской власти»? Словом, все то, о чем я пытался говорить на суде, снова неизбежно оказалось в центре внимания.
Этот процесс чем-то напоминал театр абсурда. Те же статьи закона, термины и выражения, но совершенно разные понятия стояли за ними у разных людей.
Обвинение, суд, пропаганда навязывали свои, идеологические установки. Обвиняемые, их защитники, свидетели — правовые, и те из участников процесса, кто не был готов отстаивать гражданско-правовую позицию, неизбежно оказывались на стороне обвинения.
В зависимости от этого разные люди, прочитавшие одну и ту же книгу, признавали ее антисоветской или нет, а люди, которым инкриминировались одни и те же действия, — признавали свою вину или не признавали ее.
Суд проходил настолько нагло беззаконно, что вызвал бурю негодования. Наученные нашим процессом, власти не позволяли свидетелям оставаться в зале, выталкивали их силой. Не давали говорить подсудимым, защите не позволяли задавать вопросы. Свидетелей обрывали, как только они начинали давать слишком уж неугодные властям показания. Судья и прокурор старались перещеголять один другого в открытом издевательстве над законом.
Что мы считаем основой — идеологию или право? Вот какой вопрос ставили наши процессы, и от его решения зависела не судьба подсудимых, а вся наша дальнейшая жизнь. Судьба подсудимых была предрешена — идеологическое государство не могло позволить навязать себе правовую точку зрения. И Юре Галанскову, который все пять дней процесса, серый от язвенных болей, перемогая мучения, отбивался от травли суда и прокурора, — предстояло умереть в лагере, не дожив своего семилетнего срока.
Но будущее решали мы сами, и вслед бесчеловечному приговору поднималась невиданная до тех пор волна протестов.
«Мы обращаемся к мировой общественности и в первую очередь — к советской. Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости.
Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных.
Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи. Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей.
Граждане нашей страны! Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей — требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили. Сегодня в опасности не только судьба подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас всех таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться»,—
писали в своем обращении к мировой общественности Л.Богораз и П.Литвинов.