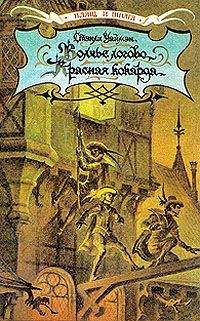Должен вам сказать, что я всем в жизни интересуюсь, кроме карт. И любовью, и выпивкой, и многим иным. И ни в чем из вышеуказанного мне не везет, а вот в карты прет как утопленнику. Словно назло. Наперекор моим душевным симпатиям.
Второй банк подходит ко мне. Закладываю я сотенную. Утраиваю. Стучу. Даже думаю: «Проиграть бы! Уж очень ребята сердятся. Неприятностей бы не было». А кругом действительно черт его знает, что происходит.
Рев. Гвалт.
Некоторые наганы из карманов тянут и кричат, что я шулер и меня тут же надо убить.
Я говорю:
— Убить можете. Убить теперь человека очень просто. Но только я не шулер. Я честно играю. Я не виноват, что мне счастье.
Ванька, который десять процентов с каждого банка берет в свою пользу, тоже подтверждает:
— Он, мол, честный. Я за этого гражданина ручаюсь. Зачем, мол, такие слова произносить, когда никто его в накладках не поймал. Теперь, мол, полная революционная свобода картежной игры.
И я снимаю с кона почти тысячу рублей.
Тут вокруг меня появляются разные прислужники. Одни бутылки с вином каким-то (и неплохим) откупоривают, другие мне папиросы в рот суют и спички чиркают, когда я курить попрошу. Третьи к буфету за бутербродами бегают. Я думаю — проиграть бы хоть половину выигранных денег, прямо неудобно!..
И понтирую вовсю. И всё выигрываю. И куча денег передо мной вот этакая.
И тут я вижу — лезет опять к столу со своей кожанкой вихрастой Колька, и молодая жена его, которая меня под дулом револьвера до трактира довела, не допускает его до этого. Тут я впервые ее рассмотрел.
Очень она хороша была. Прямо прелесть что за женщина. Редко приходилось мне видать таких красавиц. Восточное было в ее красоте, кавказское: Тамару Врубеля она мне напомнила.
Колька банкомету:
— Ставлю кожанку за триста романовских. Принимаешь или нет?
Тот отвечает:
— Можно.
Колька отпихивает молодую свою супругу, берет карту и радостно объявляет:
— Своя. Себе бери.
— И у меня своя, — отвечает банкомет, — девятнадцать.
У Кольки же восемнадцать, и куртка остается на столе.
Карта идет мне.
— Сколько в банке?
— Триста семьдесят и куртка.
— Дай карту!
И открываю два туза.
Деньги я сгреб в свою кучу, а куртку бросаю через стол Кольке и говорю:
— Это вам за то, что ваша супруга меня сюда проводила. И вам, сударыня, спасибо.
Ах, каким она меня тогда взглядом подарила — как солнце само обожгло!
И тут я из-за стола снялся. Снялся и всем присутствующим заказал угощение, чтобы на меня не очень сердились за мою удачу. Снялся я, сел с Ванькой в сторонку и говорю о разных делах, о том о сем, а главным образом, о том, как мне завтра из Москвы удрать. И он мне дает советы. А игра за столом тем временем продолжается.
И носатый Колька свою куртку уж опять проиграл. А красавица его в полном отчаянии отошла от него и, кажется, плачет в уголке.
Банк же держит этакая мордатая солдатская образина. И образине ужасно везет. Денег перед ним куча, и он уже простучал.
И вдруг Колька кричит:
— Ставлю мою бабу за пятьсот романовских. Дашь карту или нет?
Мордатый спрашивает:
— А недоразумение из этого не будет?
— Какие же недоразумения? — удивляется Колика. — Теперь революция и всем свобода.
— Тогда тяни.
— Карту!
— Двадцать одно!
И вслед за этим раздается этакий непередаваемый женский вопль: красавица в истерике забилась. Как ни ужасна была вокруг меня разнузданная революционная солдатня, но и ее проняло. Шум поднялся. Крики. Могли, пожалуй, мордатого и убить. А меня словно подхлестнуло.
Встал. Подхожу. Мордатый, побледнев, на меня смотрит. Говорю:
— Карту!
— Дает.
— Сколько в банке?
— Тысяча триста и женщина. Тысяча восемьсот, стало быть.
— Карту!
— Покажи деньги!
Начинаю вытряхивать из кармана свой выигрыш. Я вытряхиваю, а мордатый считает. Всё я вытряхнул. Он говорит:
— Мало. Не хватает шестисот почти.
— Ну, так я на женщину иду. На пятьсот.
— На пятьсот так на пятьсот, а женщину не отдам. Если хочешь дамочку, так на все иди.
И затихло всё вокруг. Чувствую, что и сам я бледнею, что такая ярость закипает в моем сердце, что убью я сейчас этого подлеца стулом или еще чем-нибудь. Но сжал сердце. Оглянул людей. И чувствую, что оглядываю я их взглядом офицера. Так, бывало, перед боем, пред атакой солдатишек своих оглядывал. И стою, выпрямился. И вижу, что и все почти встают и вытягиваются строевому. Только мордатый сидит и нагло на меня смотрит
А я говорю, и голос у меня звонкий, командирский, таким голосом охотников, бывало, я на трудное дело выкликал:
— Ребята, кто даст мне пятьсот рублей? Не для себя надо!
И замухрыжистый такой солдатишка, что рядом стоял, говорит негромко:
— Нате вам, ваше благородие, от меня полсотни…
И другой кто-то предлагает, и третий, и четвертый. И нужная сумма собрана.
— Карту!
Мордатый бледен. Он мусолит палец и, сдав мне карту, тянет себе и, осторожно заглянув, вдруг весь расцветает улыбкой. И говорит:
— Даю.
— Не надо.
— Девятнадцать.
Я переворачиваю свои карты. И над всем столом вздохом облечения проносится:
— Двадцать!
Рассчитавшись с солдатишками, давшими мне возможность сорвать банк, я выкупаю тужурку и сапоги вихрастого Кольки и всё это вручаю его красавице. Но она на вещи и на меня смотрит угрюмо и даже не благодарит. И я понимаю, что она пришиблена, подавлена, оскорблена всем, что происходило вокруг.
На дворе же светает. Ванька выпроваживает игроков. А я думаю о том, что правильно говорит народ — в карты не везет, в любви везет. И наоборот, наверно.
И красавица уходит.
Но утром на другой день, когда я покидал свое пристанище, она встретила меня у двух каменных столбов заставы. Она подошла ко мне вплотную и взглянула в мои глаза взглядом горьким, мученическим.
— Если вы хотите, — сказала она, — я пойду за вами. Куда хотите пойду!
— Не надо, — ответил я. — ведь вы же любите вашего вихрастого дурака.
— Но что же мне делать? — заплакала она. — Жизни мне нет!..
— Несите свой крест, — ответил я. — Эта любовь и есть ваш крест.
И мы расстались.
Долгий летний день, истомив горожан, стал наконец угасать.
Белые тучки, прозрачные, как пух тополей, тянулись с запада, а за ними, над самым горизонтом, появился темно-синий край грозовой тучи. Подул ветерок.