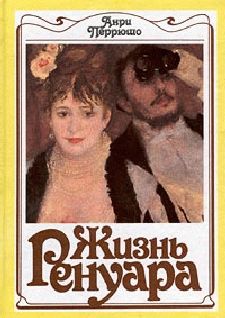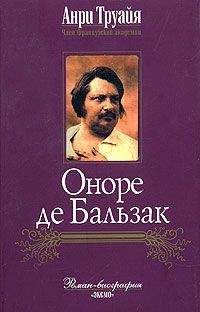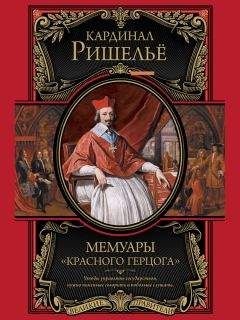В начале 1915 года художник снова начал волноваться за Жана: добившись своего, тот в чине младшего лейтенанта 6-го батальона альпийских егерей снова выехал на фронт.
"А я спокойно старюсь здесь, вот только непрестанно гложет тревога из-за этой дурацкой войны, - писал Ренуар 25 марта Дюран-Рюэлю, - и работаю понемногу, чтобы обо всем забыть. И то благо". Шутливый тон этого письма хорошо передавал состояние духа художника.
Как раз в это время в "Колетт" гостил Воллар. И Ренуар, в прошлом уже написавший несколько портретов торговца, вдруг вздумал еще раз запечатлеть того, кого называл своим "милым занудой".
"У вас потрясающая шляпа! Я просто должен вас написать, - вдруг сказал он. - Садитесь-ка вот на этот стул... Вы как-то странно освещены, но ничего, художник должен уметь приноравливаться к любому свету!.. Не знаете, куда деть руки? Нате, вот вам картонный тигренок Клода, а хотите, возьмите вон того кота, что дремлет у печки!"
Воллар выбрал кота, и сеанс начался. Ренуар написал этот портрет словно бы шутя, с таким проворством, что Воллар, зная его мастерство, все же был совершенно потрясен и не мог отвести взгляд от парализованной руки художника. Ренуар заметил это. И насмешливо бросил торговцу: "Вот видите, Воллар, чтобы писать картины, совсем не нужно рук! Руки - это ерунда!.."
То было одно из последних безмятежных мгновений этой весны.
Алине все же пришлось рассказать Ренуару о своей болезни. Затем в апреле вдруг пришло письмо из Жерармера: Жану раздробило пулей шейку бедра, он лежит в местном госпитале. Своим письмом Жан хотел успокоить родных: он уверял, что после ранения у него останется лишь "некоторая скованность при ходьбе", и шутливо добавлял, что это придаст ему "офицерский шик". Но близкие раненых с трудом верят в их "успокоительные" письма.
Алина, как ни была слаба, добившись необходимого разрешения, тут же выехала в Жерармер.
"Вот увидите, - сказал Ренуар Воллару, - если мне пришлют депешу с обилием подробностей, значит, от меня хотят что-то скрыть".
Вскоре ему принесли короткую телеграмму, но она не успокоила его тревоги.
"Я знаю, - твердил он, - они отрежут ему ногу! "
"Моя спальня, - рассказывал впоследствии Воллар, - была расположена рядом со спальней Ренуара, и я слышал, как он всю ночь стонал. Довольно было малейшей тревоги, чтобы лишить его сна, а когда он не спал, то жестоко страдал от болей. Но при всем том дух его оставался несломленным. Простонав всю ночь, он приказывал отнести себя в мастерскую: работа возвращала ему силы.
Алина больна, Пьера оперировали еще в конце марта, Жану, возможно, уже отняли ногу... Все навалилось на него сразу, повергая в отчаяние. Но он писал, он продолжал писать, навечно запечатлевая женщин и детей в расцвете их прелести. Будто ничему не суждено исчезнуть, будто не существует страдания, болезни и смерти, будто мир этот не смешной и жестокий мираж, где все лишено смысла, все сон и обман, смешение теней во мраке земли.
Ренуар не зря опасался, что Жану отнимут ногу. В Жерармере разыгралась настоящая драма. У Жана началась гангрена ноги. Когда приехала Алина, врачи как раз собирались его оперировать. Она так умоляла их не делать этого, что операцию отложили. Затем в госпитале сменился персонал, и Алина обрела союзника в лице нового главного врача. Тот был против операции и назначил лечение, которое оказалось для Жана спасительным. Скоро Ренуар получил телеграмму с известием, что ногу отнимать не будут.
Зная, что сын ее спасен, Алина возвратилась в Кань, взволнованная, совсем без сил. Дома ей пришлось сразу же лечь в постель. Ее перевезли в Ниццу, где было легче обеспечить необходимое лечение. Однако восстановить ее силы не удалось. К исходу июня уже стало ясно, что дни ее сочтены. 27-го у нее началась агония.
Ренуара отвезли в его инвалидном кресле к постели умирающей. По его изможденному лицу струились слезы. Ренуар смотрел на Алину. Все кончено. Эта часть его существа уже простилась с миром.
О чем он думал? Наверно, ни о чем. О чем можно думать в этот страшный миг смерти, когда исчезает, гибнет человеческое существо? Наверно, Ренуар ощущал лишь ту безмерную, острую, сжимающую горло скорбь, которую вызывает у человека сознание невыносимой истины: "и это все", "ты больше никогда ее не увидишь", сознание собственного бессилия. "Дни человеческие будто трава".
Алина была еще молода, ей шел всего лишь пятьдесят седьмой год. Глазами, полными слез, оглушенный, раздавленный болью, глядел Ренуар на свою подругу, с которой прожил тридцать три года. Внезапно он наклонился, поцеловал умирающую, затем, выпрямившись, прошептал: "Пошли!" - и попросил отвезти его в мастерскую. Там он сел к мольберту, спросил палитру и кисть. На мольберте была заготовка - недописанный букет роз. Художник плакал, его худые плечи вздрагивали от рыданий, но он взял кисть и снова начал писать, мазками накладывая на холст краски, даруя жизнь этим розам, забрызганным кровью. Цветы эти были его скромной и великой победой над равнодушием беспредельного мрака.
Все сущее на земле есть рай.
Неизвестный философ из Франкфурта
В квартире на бульваре Рошешуар, сидя в своем инвалидном кресле, Ренуар беседовал с Жаном, который теперь тоже был вынужден неподвижно сидеть на стуле: он уже начал поправляться после ранения, но еще пользовался костылями.
Художник жил в Париже, при нем были две женщины: Булочница и его старая кухарка - Большая Луиза. С самого начала войны Габриэль, хотя и сохранила дружеские отношения с "хозяином", уже не жила в его доме. Судьба ее круто изменилась после встречи с живущим в Кане американским художником Конрадом Слейдом. Габриэль стала его женой и после войны уехала с ним в США, где много лет спустя окончила свои дни[232].
Квартира на бульваре Рошешуар показалась Жану мрачной, заброшенной. "Смолк смех натурщиц, прислуги. Все картины были отправлены в Кань, стены и полки опустели, в комнате моей матери пахло нафталином".
Вся жизнь в этой квартире, казалось, сосредоточилась в цветах, которые писал художник, да и сам он только ими и жил. Как-то раз при виде одной из картин Тинторетто Сезанн сказал Жоакиму Гаске: "Знаете, чтобы написать вот эту розу, будто подхваченную вихрем радости, надо было много пережить... много выстрадать - смею вас уверить! "
Страдание, будь то физическое или моральное, коль скоро Ренуар его принимал, как он все принимал от жизни, коль скоро он преодолевал его, подавлял своей творческой радостью, - страдание это не только не разрушило, не уничтожило его художественный гений, не только не обрекло больного старика на пассивное угасание - обычную участь старости, но, напротив, помогло ему решающим образом приблизиться к самому сердцу жизни.