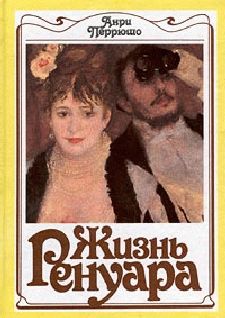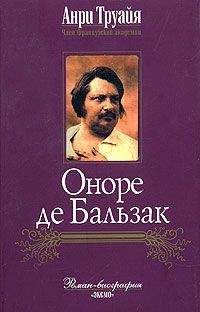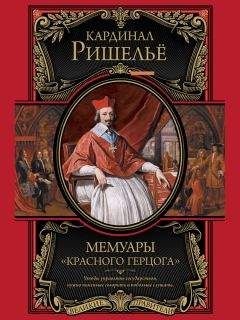Он прикоснулся к источнику всего сущего. Бесконечно разнообразный мир вновь обрел первозданное единство.
Картины, которые он писал, возникали под его кистью не как самостоятельные, обособленные произведения, а скорее как фрагменты единого целого. Из одной и той же материи, согретой той же кровью, он лепил деревья сада, бюст женщины или плоды. Все элементы бытия, все царства сливались воедино. Ярким огнем пламенели кусты. Нагие тела женщин наливались тяжестью земных соков. Гибкие стебли растений вились, будто длинные волосы женщин. Капли воды вспыхивали на солнце, как драгоценные камни.
Но стоит ли удивляться этому итогу, этой новой, последней ступени в творческой эволюции Ренуара, когда особенно ярко выразилась индивидуальность художника, его способность отдаться течению жизни, широта личности, жаждущей вырваться за собственные пределы, чтобы в конечном счете раствориться во вселенной?
Подойдя к концу своего жизненного пути, свободный от всех условностей, он отбросил все случайное, привнесенное обстоятельствами, встречами, неожиданными влияниями. Осталось одно сокровенное, несокрушимое внутреннее зерно: Ренуар писал мир, в котором тонуло все частное.
Нужно ли удивляться, что Ренуар был счастлив и стал певцом счастья? Наверно, никто никогда еще не жил в таком согласии с законом жизни и смерти, неумолимого разрушения, на которое обречено все живое. Даже собственная его смерть и та будет эпилогом его пути - в полном согласии с главной движущей силой его жизни.
Вернувшись осенью в "Колетт", Ренуар стал жаловаться на болезни. Сначала насморк, потом бронхит, затем воспаление легких мешали ему работать так, как хотелось. Ренуар был вне себя - ведь у него появилась прекрасная модель, великолепная рыжеволосая красавица Андре, которую все называли Деде.
"Как она хороша! Я долго разглядывал моими старыми глазами ее юное тело и понял, что никакой я не мастер, а просто младенец"[233].
Опасаясь холодов и ветра, Ренуар велел соорудить для себя в саду под оливами маленькую деревянную застекленную мастерскую, куда его переносили в своего рода паланкине. Натурщица позировала снаружи.
Казалось, теперь он всего лишь пламя, питаемое одним чувством. Его тяготило бремя его тела, исхудалого, легонького тела, которое почти уже не слушалось его. Но в этом жалком теле по-прежнему горел пламенный дух.
Как только немного утихала боль, Ренуар писал картины, а не то вдвоем с Гвино работал над скульптурами, забыв обо всем, пока на "Колетт" не спускались сумерки.
Невыносимо долгими были ночи. Ренуар страшился ночей, заранее ненавидя тот миг, когда, вынужденный отложить в сторону кисти и лишенный блаженной радости творчества, он снова ощущал себя просто больным стариком. "Самое трудное время для меня - зима, - говорил он, - когда сумерки сгущаются в четыре часа. Тогда последним часам дня будто нет конца".
По ночам боль становилась нестерпимой. Тщетно старался он уснуть, изнывая под тяжестью простынь и одеял; от одного их прикосновения у него воспалялась кожа. Милое видение - Алина - являлось ему; он думал о Пьере, освобожденном от строевой службы; о Жане, который, едва оправившись от ранения, потребовал, чтобы его зачислили в летную часть. "Наверно, эта идиотская война никогда не кончится", - писал он Альберу Андре в начале 1916 года.
Когда спускался вечер, художника перевозили назад в гостиную. Молча глядел он в окно на темнеющее небо.
"Вы здоровы?" Ответом вам был взгляд, почти враждебный взгляд "застывшего" левого глаза. Слегка скривив рот, Ренуар, бывало, буркнет: "Насморк у меня". Что означало: "Оставьте меня в покое". Потом он вдруг говорил: "Все теперь мне безразлично. Мне все равно, если даже я напишу зеленое лицо или синий апельсин..."
В те вечера, когда он уставал сверх меры, он говорил, что оставит работу: "Еще никогда я не чувствовал себя таким старым"[234].
Но на другой день он вновь становился самим собой. С трудом пробуждаясь от тяжелого утреннего сна, он поручал свое тело заботам Большой Луизы и медицинской сестры - начиналась его привычная "медицина", как он говорил. Художника умывали, одевали и после завтрака переносили в мастерскую. "Застывший" глаз сквозь стекло оглядывал место, натурщицу. Ренуар оживлялся, коротко и радостно вскрикивал, клал первые мазки: "Грудь-то какова! Нежная! Тяжелая! И под ней такая прелестная складка, и этот золотистый тон... Просто хочется встать перед ней на колени..." Ренуар писал. Он писал, напевая какой-нибудь романс, лишь изредка умолкая, чтобы выкурить сигарету и, отъехав назад в своем инвалидном кресле, посмотреть, как выглядит картина. "Чтобы хорошо работать, надо уметь видеть"[235].
* * *
Искусство - это тоже оружие, средство борьбы. Французские власти устроили за границей ряд художественных выставок, чтобы показать превосходство величайших мастеров Франции. Для этой цели отобрали не картины Бонна, Бугро и иже с ними, а произведения импрессионистов, и прежде всего Ренуара.
Имя парализованного старца из Каня было у всех на устах. И все больше любопытных устремлялось в "Колетт", все больше становилось посетителей, подчас весьма странных.
"На этот раз дело в шляпе: я великий человек, я уже благословляю божьих пташек! - с иронией говорил художник Альберу Андре. - Представьте, ко мне пришла старая американка, встала на колени и протянула мне, чтобы я к нему прикоснулся, голубка, прикованного к ее запястью".
В январе 1917 года Альбер Андре с женой приехали в "Колетт" провести некоторое время в обществе Ренуара. Как раз тогда же сюда приехал и Жан, получивший недельный отпуск. Присутствие людей, которых он любил, развеселило Ренуара. "Ах, друзья мои! - как-то раз воскликнул он, когда после очередного утреннего сеанса его привезли из мастерской. - Я скоро умру, но, кажется, сейчас я наконец создал лучшую из моих картин!" Однако чуть позже, снова сидя перед своей картиной, он сказал, глядя на нее: "Нет, это еще не шедевр".
Муниципалитет города Баньоль-сюр-Сэз, в департаменте Гар, предложил Альберу Андре стать хранителем маленького местного музея. Андре колебался. Но Ренуар советовал ему принять предложение. "Послушайте, дорогой, сам я мечтал об этом всю жизнь". Ренуар обещал подарить музею несколько собственных картин и рекомендовал попросить о том же Клода Моне и других художников из числа общих друзей. И Альбер Андре дал согласие[236].
После отъезда Жана и четы Андре Ренуара вновь охватило прежнее одиночество, нарушаемое лишь нелепой шумихой вокруг его имени. "Меня берет оторопь от беспрестанных просьб, которыми мне досаждают", - писал он в апреле Дюран-Рюэлю. Весна с ее коварной мягкостью утомила Ренуара. "Я состарился быстрее обычного", - отметил он в мае.