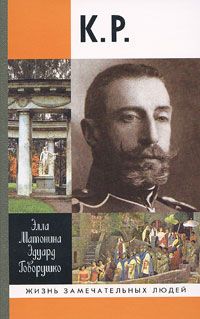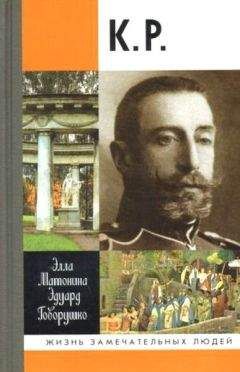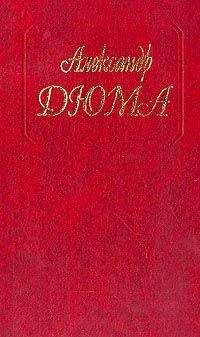И спустя годы К. Р. будет вспоминать вечер на Плющихе. Он невольно завидовал Тургеневу, графу Льву Толстому: они так часто пользовались гостеприимством и радушием Афанасия Афанасьевича и Марьи Петровны. «… В памяти своей справлял годовщину милого проведенного вечера, тянуло к Вам на Плющиху». И Фет его будет звать в гости, а он с сожалением ему отвечать, что с прирожденной чуткостью стихотворца Фет не может не угадать, как хочется предпринять путешествие в Воробьевку с единственной целью заглянуть в гостиную, где, зажженные заботливой рукой Марьи Петровны, будут гореть все свечи люстры.
Конечно же не могли они уйти и от злободневного течения жизни.
Обсуждали университетские волнения, при «которых мальчики решаются вступать в переговоры с верховной властью». Благодетельной мерой в этих случаях Фет считал исполнение воинской повинности во время вакаций. «Ваше Высочество и я – разные по возрасту и по положению, – говорил Фет, – всецело ощущаем благодатное действие… пройденной нами военной службы».
Константин не без тревоги отмечал в дневнике сильнейшую засуху и грядущий голод. Фет жаловался на гнилую погоду: «Подобно всей стране мы в настоящую минуту стонем под ливнями, сгноившими сено и грозящими погноить хлеб».
Узнав о высокой монаршей милости – назначении Константина Константиновича командиром Преображенского полка, Фет поздравлял его с этой честью, но радовался и за Государя, который понимает и ценит нравственные достоинства Великого князя и отмечает их и званием президента Академии, и должностью командира первого полка в России. И, как отец за сына, он был обеспокоен тем, что Константин, став командиром полка, не имеет чина полковника. Как же он будет командовать полковниками, которые, безусловно, есть в полку? Он ободрял молодого человека, вступившего на командирский пост: «… действительно жутко вдруг командовать… большою частью, но это только на первых порах, да и то в первые минуты. Поэтому я нисколько не боюсь за будущность командира л. – гв. Преображенского полка…»
* * *
Их эпистолярные беседы шли от души, от сердца, от взаимной приязни. Они – длинные, исповедальные, без страха и осторожности, о чем бы речь ни шла: о творчестве, семье, военной службе, любви, поэзии, о монархии, русской и мировой истории и даже о политике. Якову Петровичу Полонскому, например, К. Р. не рекомендовал читать газеты, дабы сберечь здоровье. Но иное письмо Фета было много взрывнее самой что ни на есть скандальной газетной статьи. Он ставил эпиграф Amicus Plato, sed magis arnica Veritas («Платон мне друг, но истина дороже») и начинал говорить о «мутных потоках современного ненастья». По дороге умствования он задевал и августейшего президента Академии наук, вернее, дела в его ведомстве: «Когда развитой человек, с одной стороны, вопит о помощи голодающим, а с другой – ухищряется выхлопотать себе деньги на заграничную поездку, якобы для пользы, для науки, сознавая при этом, что эти деньги взысканы с тех самых голодающих, – такое действие может быть только вредным». Константин понял, что ему к академической финансовой отчетности стоит относиться внимательнее…
Фет писал и о делах всего государства – «от избытка чувств уста глаголют».
«Считая себя монархистом, а монархию единственно пригодной для России формой правления, видя, что все члены Августейшего Дома… начиная с Государя, прямо с вокзала едут к Иверской, я повторяю: „князь и бояре крестились, стало быть, и нам надо“, так как убежден, что Россия может только быть Русью или ничем». Фет все еще верил, что смерть поддельного либерализма – вопрос времени. Требовали конституцию – Александр III сказал: «Не будет конституции». Ждали передела земель – Царь сказал: «Не будет передела». Ждали окончательного безначалия и принижения дворян – Царь учредил земских начальников исключительно из дворян. Фет радовался ослаблению «революционной жилы». Но в последнее время он понял, что она не ослабела. Он увидел «наставников юношества», уверявших, что в минуту бунта солдаты станут на сторону бунтовщиков, и говорили они это с радостно горящими глазами. Да и революционеры, по его мнению, поумнели: делают ставку не на простонародье, а на людей в высших государственных сферах. «… Я могу надеяться, что не доживу до печальных результатов такого направления, но грустно и неблагодарно думать, что „apres nous le d?luge“ (после нас хоть потоп. – Э. М., Э. Г.)».
В ответ «регулятор нашего умственного движения», так Фет называл августейшего президента Академии наук, свое послание начал с восторга от новых стихов учителя: «Как непостижимо Вы умеете овладеть душою и потрясать ее до заветной глубины!» Возможно, чтобы снять накал эмоций или уйти от спора. Хотя слышать Его Императорскому Высочеству суждение, что с «верноподданными в России поступают как с неприятелем», даже от своего кумира, – это требует выдержки и терпения. Но Константин не желал нарушить сложившееся в дружестве с Фетом доверие, и он пишет, что пространное его письмо произвело светлое впечатление своей чистосердечною искренностью и цельностью. «Могу ли я не сочувствовать Вашим твердым убеждениям?» И переводит разговор на публикацию в газете «Daily Telegraph» статьи Льва Толстого «О голоде».
* * *
Граф Лев Толстой – это имя имело особую притягательную силу для К. Р. и его друзей.
Константин не был знаком с Толстым. «Войну и мир» прочитал в юности во время дальнего плавания. Был поражен художественностью романа и тем, что нашел в нем знакомые чувства и желания – прежде всего, быть хорошим человеком. К своей радости и удивлению услышал подобное мнение от Петра Ильича Чайковского: «Толстой любит людей, у него нет злодеев».
В обществе всякое говорили о жизни Толстого в Ясной Поляне. Но Великий князь в знаменитой усадьбе не был, а брать на веру всевозможные слухи не хотел. В жизни Константина Афанасий Афанасьевич Фет был первым человеком, чья близкая дружба с Толстым позволяла ему быть достоверным в разговорах о нем. Фет часто ссылался на суждения Толстого.
Пройдет время, усилиями Константина в год столетия Пушкина будет возобновлен при Академии Разряд изящной словесности, [42] называемый Пушкинской академией, и в числе первых девяти почетных академиков будет избран, конечно, Лев Николаевич Толстой.
Для Константина счастливым открытием была любовь Толстого к поэту Фету. О стихотворении Фета «Далекий друг, пойми мои рыданья…» Лев Николаевич говорил: «Коли оно разобьется и засыплется развалинами, и найдут только отломанный кусочек: „в нем слишком много слез“„, то и этот кусочек поставят в музей, и по нему будут учиться“. Стихотворение „Среди звезд“ находил „… с тем самым философским поэтическим характером, которого я ждал от вас… Хорошо также (заметила жена), что на том листке, на котором написано стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стоит 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта“, – смеется Толстой.