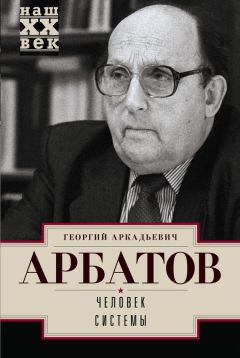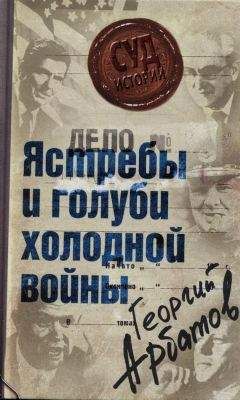Это была, я убежден, сознательная политика Сталина, направленная на подкуп верхушки партийного и советского аппарата, втягивание ее в своего рода круговую поруку, линия на то, чтобы с помощью прямого подкупа и внедрения, боязни вместе со служебным постом потерять привилегии обеспечить абсолютное послушание чиновничества и его активное служение культу личности.
Таких привилегий начальству разных рангов, какие существовали к моменту смерти Сталина, наша страна после революции не видела никогда. Другой вопрос, что о них меньше говорили да и меньше знали. Отчасти потому, что многие из них были настоящей тайной, за разглашение которой могли строго наказать (к числу таких тайн относились «пакеты»). Отчасти потому, что численность чиновников, пользовавшихся привилегиями, была все-таки заметно меньшей, чем позднее. Как и численность людей, пересекавших в обоих направлениях границу между теми, кто «имеет» и кто «не имеет» (привилегий). Разжалованных часто арестовывали. А если и нет – они молчали. Попасть же наверх было очень трудно. А те, кто там оказывался, вели, как правило, очень замкнутый образ жизни. И тоже помалкивали.
Потому первый поход против привилегий был начат Н.С. Хрущевым без всякого давления снизу, по его собственной инициативе. Когда я пришел в аппарат ЦК (в 1964 году), старые работники все еще не могли успокоиться, оправиться от шока, который вызвала ликвидация части привилегий (по аналогии с вошедшими для того поколения в политграмоту «10 сталинскими ударами» 1943–1944 годов их в аппарате назвали «10 хрущевскими ударами»). Лишили тогда ответственных работников многого: «пакетов», бесплатных завтраков, большой круг людей – бесплатных дач и персональных машин. Но немало и осталось. И, насколько я знаю, с тех пор к привилегиям, оставшимся от Сталина, ничего не добавляли.
Я, конечно, имею в виду официальную сторону дела, а не то, что получали в силу скрытых или явных злоупотреблений служебным положением (барские охоты, гостевые особняки, подарки и т. д.), а тем более коррупции. И, кроме того, конечно, при Хрущеве, а затем при Брежневе непрерывно росло число получателей разных благ, поскольку рос аппарат, пользовались этими привилегиями бесстыдно, даже нагло, нередко строя особняки, гостевые дома, «служебные» гостиницы, санатории и дома отдыха с невероятным расточительством, нелепой и притом безвкусной роскошью.
Однако пора от всегда соблазнительной для автора, но уже изрядно исхоженной темы о жизни «верхов» вернуться к менее занимательным, но не менее важным вещам. Я хотел бы поговорить о том, что тоже составляет важную часть политической надстройки, и прежде всего государства, – об аппарате. В первую голову о том аппарате, который сейчас, имея в виду его функцию в правовом государстве, называют правоохранительным.
Этот аппарат зарождался в годы революции и военного коммунизма, Гражданской войны, острой внутренней борьбы, когда советское правительство откровенно, ни от кого этого не скрывая, действовало методами диктатуры, временами прибегая к тоже открыто провозглашавшемуся «красному террору». Нормальное уголовное законодательство, нормальная юстиция, нормальная служба охраны правопорядка (милиция) начали создаваться в те же годы, когда экономика переходила на рельсы НЭПа и было осуществлено радикальное – от многих миллионов до 500 тысяч – сокращение армии. А перед внешней политикой была поставлена цель обеспечить мирную передышку (на большее тогда не рассчитывали) и взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.
Но далеко в правоохранительной сфере тогда не пошли. А вскоре начался противоположный процесс – создание огромного аппарата политической полиции и внесудебных средств и методов наказания (хотя и суды, по существу, были послушным инструментом административной власти и произвола). Открытые политические процессы (потом оказавшиеся липовыми) конца двадцатых – начала тридцатых годов, зловещие 1937–1938 годы, раскулачивание, депортации целых народов и следовавшие одна за другой вплоть до смерти Сталина волны беззаконий и репрессий были составными частями этого процесса. Так же, как использование карательных органов, судов, уголовных наказаний, тюрем и лагерей в качестве инструмента административно-командной экономики (труд заключенных, использование уголовного принуждения для обеспечения трудовой дисциплины – суровые уголовные наказания за «кражу» голодными крестьянами горстки колосков или ведерка картошки, за опоздание на работу более чем на 21 минуту, за выпуск некачественной продукции, за сверхнормативные запасы тех или иных видов сырья и материалов на предприятиях и т. д.).
После смерти Сталина и особенно после XX съезда КПСС машина политических репрессий была если не остановлена, то резко заторможена. Одновременно началась и известная либерализация карательной практики. Но машину саму – ее правовые, нормативные и практические компоненты – не разрушили. Пусть в небольшом числе и без большой огласки (иногда даже секретно) политические репрессии, как и беззакония, акты произвола под видом наказаний за уголовные преступления у нас не прекращались – ни в годы, когда партией и государством руководил Хрущев, ни в годы, когда политическим лидером стал Брежнев. О радикальной правовой реформе, о создании правового государства заговорили лишь в годы перестройки (пока, в момент, когда пишутся эти строки, к сожалению, дальше разговоров дело не пошло)…
Но я не собираюсь, да и не считаю себя для этого достаточно компетентным, воспроизводить всю историю послереволюционной карательной политики и правоохранительной (понимаю, насколько не подходит здесь это слово) практики в нашей стране. Это, так сказать, введение нужно мне лишь для того, чтобы рассказать о том, что в этой области происходило в годы, заслуженно называемые нами периодом застоя.
Естественно, что консервативная политика – политика, нацеленная на предотвращение перемен, – требует более активного использования карательного аппарата, аппарата подавления. И это произошло. В какой-то мере в прямой форме – людей судили, только уже не по 70-й, а по статье 190-прим УК РСФСР за разные виды антисоветской деятельности, чаще всего пропаганду, клевету и т. д., давали сроки, отправляли в лагеря или в ссылку. Но, конечно, после XX и XXII съездов КПСС, после разоблачений сталинских преступлений и ГУЛАГа практиковать политические репрессии в широких масштабах руководство не хотело. Не хотел этого и Брежнев, помня о том, как воздала история за эти преступления Сталину. Тем более это относится к Андропову, который, возглавляя в эти годы КГБ, отнюдь не хотел быть поставленным потом на одну доску с Берией или Ежовым. И хотя со стороны отдельных членов политбюро, как мне он не раз жаловался, напор такой был – «сажать надо!», «до каких пор можно терпеть!» и т. д., – все же тогдашнее руководство страны проявляло осторожность и на массовые репрессии себя толкнуть не дало.