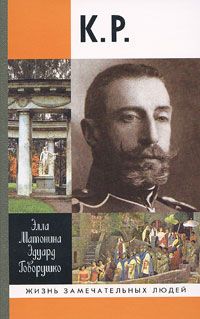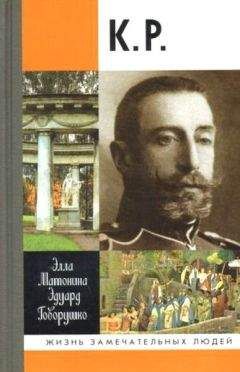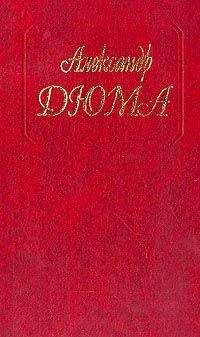Фету становилось все сложнее принимать новые взгляды Толстого. Он вздыхал, рассуждая о том, как все же меняются людские убеждения: казалось, совсем недавно граф Лев Николаевич объяснял ему, далекому от придворной жизни, значение блеска шапки Мономаха и золотой толпы придворных, – и вот, на тебе! – призывает ходить босиком…
Константин, желая смягчить грусть и раздражение Фета, напоминал ему о прекрасной толстовской статье «О голоде», опубликованной в журнале «Вопросы философии и психологии». Странной была эта похвала Его Императорского Высочества, ибо шла вразрез с действиями властей, арестовавших этот номер именно из-за статьи графа Толстого. [43] Правда, Константин хвалил статью за советы, касающиеся житейской стороны дела… И не без юмора писал Фету, что знает о гостеваний Афанасия Афанасьевича в Ясной Поляне и счастлив знать, что он не способен стать учеником графа Толстого, а Марья Петровна по его совету все же не станет ходить босиком. И с изумлением спрашивал Фета: «Что за беда с нашими выдающимися людьми? Боровиковский, живописец, попал в хлыстовщину, Лев Толстой проповедует бредни, Вл. Соловьев оплакивает гибель духовных сил России и шлет ее к Папе на покаяние!»
Но Фет был беспощаден к «теперешнему» Толстому. Полонский чуть ли не в лицах изображал Константину, что происходит из-за Толстого в цветущей, похожей на рай Господень, Воробьевке:
– Величайший наш художник в настоящее время просто человек помешанный, проповедник несуразной чуши и галиматьи! – это кричит Фет о друге своем Льве Толстом.
– Я все равно – великий почитатель автора «Войны и мира». Толстой – гениальный художник. И его «Крейцерова соната», несмотря на потоки гнева читающих, высоко нравственное и беспощадное творение, – возражает прибывший прямо из Ясной Поляны в Воробьевку Николай Страхов.
– Но «Крейцерова соната» даже в Австрии запрещена, – замечает Полонский. – И вы, Николай Николаевич, переносите свое восхищение художником на графа как проповедника своей собственной религии.
– Мне нет никакого дела до человека, который бы вздумал ночью голый бегать по своему дому… Мало ли сумасшедших, но если человек голый выбегать начнет к гостям или всех уверять, что так и следует, то я молчать не могу. Так и граф. Сиди у себя дома и думай что хочешь… Но он пишет – и ищет себе поклонников, – не может остановиться Фет.
Всех останавливает Марья Петровна, появляясь с букетом свежесрезанных цветов и напоминанием о чае. Но Страхов, уклоняющийся от многих ответов – «я люблю слушать чужие речи», – иногда все же с сожалением говорит о деревенской жизни Льва Николаевича:
– Она неурядлива и бестолкова… Большая семья, постоянная толпа гостей – никто не знает, что ему делать: одни обедают, другие гуляют; одни ложатся спать, другие только что просыпаются; подают самовар, и он успеет два раза простыть, прежде чем кому-то из проходящих вздумается его заварить. Среди гостей – оперный певец Фигнер и его жена Медея… Какая-то артистка, поклонница Вагнера… Граф с умилением до слез слушает музыку – на другой день он ее проклинает; гостит художник Ге и вместе с ним его картина, снятая с академической выставки: «Христос перед Пилатом». Ге поклоняется идеям графа, граф – его картине… Какой-то американец хочет эту картину купить, возить ее по Америке и за деньги показывать публике…
– Я, грешный, дорого бы дал, чтобы никогда не видеть ее, – перебивает Полонский.
– Семья мужика Калиныча, описанная Тургеневым в «Записках охотника», идеал – по сравнению с той жизнью, беспорядочной и тунеядной, какую создал вокруг себя этот новый проповедник морали! – заключает Фет, начисто расстроенный услышанным от Страхова.
Он не пьет чая, идет к себе. Его зовут – он сидит неподвижно за столом с каким-то несвежим листом бумаги в руках. Марья Петровна озабоченно и нежно несет ему чайную чашечку, которая звенит о блюдце…
Фет всматривается в строки давнего письма дорогого ему Льва Николаевича:
...
«Получил Ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и из этого коротенького письма… мне, в котором я пропустил фразу: хотел звать Вас посмотреть, как я уйду, написанную между соображениями о корме лошадей, и которую я понял только теперь, я перенесся в Ваше состояние, мне очень понятное и близкое, и мне жалко стало вас… Нам с Вами не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены; но мне никого в эту минуту там не нужно бы было, как Вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а Вы и те редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность… то в сансару (перевоплощение души в буддизме. – Э. М., Э. Г.)… А люди житейские – попы и т. п., сколько они ни говори о Боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, – именно того Бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного…»
Читая «Воспоминания» Фета, Константин обнаружил, что удивительным образом сходится во мнении с Толстым о многих стихотворениях Фета. Ему почему-то всегда казалось, что граф Толстой не любит и не понимает стихов, – и вдруг в его письмах Фету такие тонкие толкования поэзии! «А что, если б я послал ему, как члену-корреспонденту Академии, свои две книжки? Стал бы он читать, написал бы мне свой отзыв? Как Вы думаете? Пожалуйста, скажите откровенно. Конечно, я слишком хорошо знаю, какая бездна отделяет К. Р. от Фета, и все-таки желал бы вступить с Толстым в сношения», – спрашивал он Афанасия Афанасьевича.
Пройдет полмесяца, и он грустно напишет в Воробьевку: «Прочитав письмо графини Толстой, я подумал, что было бы благоразумнее воздержаться от желания послать графу Льву Николаевичу мои книжки… Толстой дорог мне как автор „Войны и мира“, но не как проповедник, высказавшийся в „Исповеди“, „Крейцеровой сонате“ и т. д. Пока он понимал искусство для искусства и умел ценить Ваши стихотворения, я бы мог дорожить его мнением. Но теперь я не научусь от него тому, что желал бы постигнуть, а потому зачем его тревожить?»
Но невоплотившееся желание тревожило Константина всю жизнь…
* * *
Фету хотелось стать камергером. Константин сделал всё, чтобы сбылось желание любимого поэта.
Приближались 70-летие Фета и 50-летие его творческой деятельности. Афанасий Афанасьевич испытывал самые разноречивые чувства. Он говорил, что ограничится приемом у себя на дому желающих почтить его поздравлениями и отказывается от всяких публичных чествований. Но долгое преднамеренное молчание вокруг его имени утомило поэта. Дружба с Его Императорским Высочеством Великим князем Константином Константиновичем Романовым, искренно почитающим его талант, возбудила надежды. Хотелось, чтобы его вспомнили и… наградили.