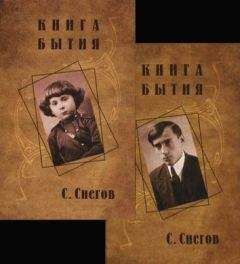Это же относится и к живописи, сразу сложившейся в несколько школ и выдвинувшей десятки мастеров мирового уровня. Достаточно назвать такие имена, как М. Врубель, В. Серов, И. Репин, В. Суриков, В. Поленов, Н. Рерих, К. Коровин, К. Сомов — и еще много, много замечательных фамилий. Когорта оригинальных живописцев поднялась из недр русской интеллигенции — и уже готовилась штурмовать Европу.
А разве осталась в стороне философская мысль? У нас никогда (за всю нашу историю) не было своих Декартов, Спиноз, Гоббсов, Локков, Кантов, Гегелей, Шопенгауэров, Ницше, Бергсонов, Марксов и Дьюи, даже Спенсеров и Контов. Собственно, Россия не родила гигантов и в двадцатом веке, но в ней, так долго отстававшей от мировой философии, появилась своя горная философская страна с пиками европейского уровня: В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Бердяев, В. Вернадский, Л. Шестов, А. Лосев, Н. Лосский, А. Введенский (не митрополит) — этот список можно продолжить.
Только отсутствие конкретных знаний мешает мне утверждать, что и в других областях искусства мы выходили на первые места. Но я уверен, что это было именно так.
В начале века Россия превращалась в страну передовой мировой культуры.
Этот бурный подъем был оборван большевистской революцией. Ее вожди сами принадлежали к интеллигенции, не чурались философии и литературы (во всяком случае — и вполне справедливо — их можно отнести к незаурядным журналистам). У Ленина, Троцкого, Луначарского выходили многотомные собрания сочинений — их и сейчас интересно читать. Беда в том, что интеллигенты эти смертно боялись интеллигенции, люто ее ненавидели, ибо она (по определению) была враждебна их политическим прожектам. Когда большевики арестовали несколько десятков «кадетствующих интеллигентов» и Горький бросился их защищать от ЧК, Ленин написал ему: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».
Сказано ярко и сильно. А когда за спиной — государство, слово немедленно превращается в дело. Это в капиталистических странах правительства почти не командуют умами и частными интересами граждан — у нас власть диктаторская, тоталитарная, наловчившаяся карать не только за поступки, но и за тайные мысли — даже за подозрения, что ты способен их иметь. Естественно, она немедленно приступила к формированию сознания своих адептов. Никакого индивидуального словоборчества, никаких стихийно возникающих мод и течений — только то, что предписано.
Новых российских правителей, конечно, можно было честить как угодно — но относить их к дуракам все же не стоило. Они прекрасно понимали, что один запрет малодейственен. Надо было его подкрепить — например, такими строками:
Вновь враги направляют удары
В стан глашатаев новых идей.
Берегите вождей, коммунары,
Берегите вождей![36]
Вот это настоящая поэзия — та, что нам нужна! Поощрить ее — типографией, гонораром, продовольственным пайком!
В то же время тонкая барышня тихо скорбит о своей неудавшейся любви к женатому мужчине:
Осень. Толпятся тучи-скитальцы.
Желтые листья легки.
Он носит кольцо на третьем пальце
Правой руки…
Но я спокойная, даже не плачу,
Не склоняю перед ним лица.
Лишь, прощаясь, чую рукой горячей
Холодок кольца.[37]
Еще одна дамочка[38] заныла о том, как сильна любовь, как мучительно трудно стать матерью, какое это ликование, какой восторг — материнство. Подумаешь, невидаль — была девкой, стала бабой. Это со всякой случается. Шекспировской силы строки? А надо внимательней присмотреться: подходит ли нам тот Шекспир? Не повредит ли он успеху на фронтах гражданской войны? Тоже ведь интеллигентик. И неясно — наш или не наш? Прихлопнуть все, что не приносит немедленной зримой помощи! Помощи нам, естественно. И создать, материально ее поощряя, новую моду — всяческого восхваления нас.
И первым классиком новой поэзии становится агитатор Демьян Бедный, в дореволюционное время назвавший себя вредным мужиком.
Бедный, несомненно, был даровитым стихослагателем, но сам чувствовал свою поэтическую ущербность.
Пою… Но разве я пою?
Мой голос огрубел в бою.
Ленин (в минуту литературного просветления) сокрушался, что Демьян приспосабливается к малограмотному читателю, не тащит его за собой, а остается на его уровне, — стало быть, его поэзия не развивает интеллекта и не отвечает элементарным эстетическим требованиям. Но это здравое понимание не помешало руководству РАППа[39] провозгласить в конце двадцатых годов чудовищный лозунг «одемьянивания советской литературы», сведения ее к примитивным агиткам и безвкусному выполнению «социального заказа». И если бы сам неосторожный Демьян не задел самолюбие Сталина обидным суждением о его характере и тем не потерял свой почти властительный ореол, то ретивые рапповцы и не так бы изгадили литературу!
Правительство вело двойную социальную игру — на расширение грамотности и на снижение художественного уровня, и это незамедлительно привело к потере интеллектуальной высоты, художественного вкуса, изобразительной силы. Да, конечно, о необходимости изучения лучших образцов мировой литературы говорили много и часто — но делали другое: поощряли неумелый примитивизм, частушечное мышление, синеблузный интеллект. Великая поэзия, недавно поднимавшаяся на мировые художественные высоты, рушилась в заштатный провинциализм.
Доходило до того, что новоявленные поэты гордились своей малограмотностью как отличительным признаком наших рабоче-крестьянских кровей — я сам встречал таких мастеров литературы. Мой умерший друг Яков Зарахович утверждал, что описал в своей повести «Маляс» реальную сцену, когда заведующая местным культотделом, бывшая буденновка, ставшая высшим покровителем муз, строго «доводила до истины» городского культурника.
— Кого будешь исполнять? Чайковского? Кого-кого? Это же помещик, крепостник! Да ты понял ли, что задумал? Мы шашками их рубали, кровь свою проливали, чтоб под корень всех… А теперь им дорогу, хлопать им, да? Пока я жива, не будет!
Конечно, факт вопиющий. Но предписанный настрой был таков, что подобное могло случаться — в том самом порядке исключения, который иногда становился правилом.
Только могущественнейшее государство могло добиться такого удивительного результата: художественная литература стала развиваться назад. Правда, она умножалась. Страна бурно преодолевала вековую неграмотность, насыщалась образованием, как губка водой, и остро нуждалась в книгах. И книги ей дали. Сначала те, что уже были. Затем — новые, все ниже уровнем. Каждое старое издание становилось редкостью, вещью для избранных, тайной святыней. Иногда государство просто-напросто запрещало того или иного автора. Максимилиан Волошин горько сказал: