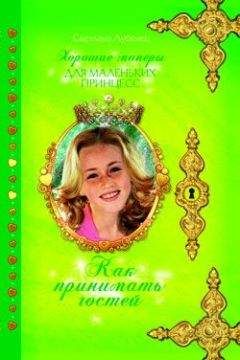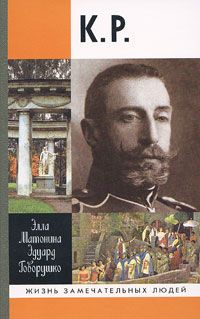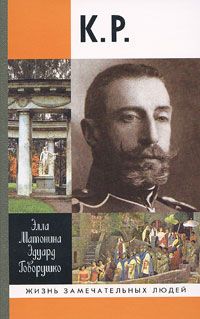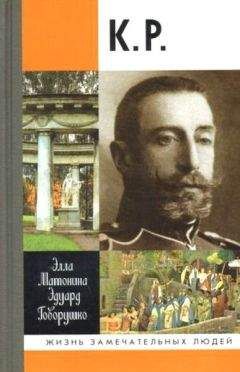Матери? О земле, где он родился и никогда не был, и никогда, быть может, не будет? А быть может, о царской милости… Зачем тогда он здесь?..
Людвиг, поднимаясь с колен, облокотился на спинку скамьи левой рукой с еще не зажившей раной – и не удержался от неожиданной острой боли. И рука оказалась на плече девушки. Она с испугом отпрянула…
– Извините! Прошу прощения! Я случайно! – шептал он, не находя других слов. Он говорил на французском. И чем дальше бессвязно и лихорадочно шептал свои извинения, с тем большим неподдельным, тревожным вниманием девушка всматривалась в этого смуглолицего молодого француза с тонкими чертами. Но он ведь русский! Русский! Мундир гусарский?! Чего он хочет? И что он, православный, делает в костеле? А он смотрел на нее как в каком-то тумане, – болезненная гримаса застыла на лице, то ли от боли саднило плечо, то ли от неуклюжести.
– Что с вами? – вдруг опомнилась девушка, оторвав свой взгляд от лица незнакомца и увидав перевязку на рукаве. – Что с рукой? Вам плохо? – она заговорила на плохоньком французском. – Я помогу… – теперь уже шептала девушка…
Они вышли из костела.
– Вы где живете? – спросил Людвиг у девушки.
– В школе, – сказала она.
Он остановился, удивленно глянул:
– В школе! – повторила девушка и засмеялась. – Я школьная учительница, Стася, Станислава Брониславовна, но лучше Стася. Не удивляйтесь.
– Идет война… Стреляют… Не понять часто, кто правый, кто неправый и от кого ждать пули.
Ла Гранж осекся. Пули в Польше летали в самых разных направлениях…
– Да, да! – дети. А как вы с ними справляетесь? А кто школу охраняет?
– Зачем? У меня восемь мальчиков. Они храбрые. Когда начинается урок, мне кажется, что никакой войны нет. Ведь войны приходят и уходят, а дети должны уметь читать и писать. Вот они меня и охраняют.
Они подошли к серому бревенчатому дому с большими окнами, высоким крыльцом.
– Здесь три комнаты, – освободилась от внутреннего напряжения девушка, становясь хозяйкой положения. – Вот две комнаты, где идут уроки, третья моя, я там живу. Мне много помогают родители детей, даже продукты приносят. Вот сегодня меду принесли и молока. Я люблю его еще теплое, парное, – и засмеялась весело и открыто… – Видите, какая я румяная и толстая!
Он глянул и улыбнулся: она не кокетничала и действительно была румяной, с большими синими и ясными глазами, роскошными светлыми волосами, собранными в тугую длинную косу.
– Проходите! – открыла дверь. – Я могу угостить вас чаем.
Они прошли в большую светлую комнату со столами, деревянными длинными лавками. И вдруг она остановилась, как бы решая, вести дальше гостя или нет.
– А почему, если вы француз, – в русском мундире? Кто вы – настоящий русский или настоящий француз? Как вас зовут?
– У вас могут быть неприятности из-за меня?
– Не думаю. Все знают, что я настоящая полька, потому и детей доверили.
Она принесла чай. Заварила шиповником. И повторила: – Так почему русский мундир?
– Зовут меня Людвиг…
– О! О!.. И имя нерусское… У русских таких нет, все Иваны. Вот вы и будете теперь моим учителем, станете выправлять французский.
– Нерусское… – медлил он, раздумывая, к чему откровения и его жизненные тайны случайной незнакомке. – Боюсь, что вы не поверите, но тем не менее все правда, что я расскажу вам. И он рассказал об отце, который вместе с Наполеоном и Мюратом дошел до Москвы, а потом погиб в снегах, рассказал и о царе Александре, который спас его с сестрой…
– Как странно, – сказала она. – Везде есть хорошие люди, но почему-то воюют.
Стася вышла с ним на улицу, протянула корзиночку с яблоками:
– Здесь у нас один француз заблудился. Я вас с ним познакомлю.
Людвиг остановился. «Откуда здесь француз?» – хотел он спросить. Но Стаей уже не было.
Несвободный от нездоровых предчувствий, с озабоченным лицом Людвиг отворил дверь. Жигалин и Бекетов пили кофе из маленьких чашечек. С коньяком. Чашечки отдала в пользование пани Ядвига. Капитану чашечки хватало на один глоток. Он было решил поменять фарфор на белое стекло, но Жигалин пристыдил его.
– А вот и мы! – с не свойственной ему развязностью попытался сказать Людвиг, а не получилось. Он осторожно водрузил на стол корзиночку с яблоками:
– Угощайтесь!
– Откуда, вестимо? – с притворной сладостью спросил Жигалин. – Впрочем, можете и не говорить, брат мой. Нашлось сердечко? Чего стесняешься?.. К кофию прикажете коньяку? – не уставал Мишель.
Людвиг задумчиво смотрел на Жигалина, на Бекетова, на яблоки.
– Оставьте яблочки в покое! – сказал вдруг Бекетов, переводя разговор на другую линию. – Потерпите пару дней. Грех до Спаса. Бабушка моя рассказывала, что в далекие времена Иисус взошел на высокую гору, чтобы совершить молитву на самой ее вершине. И когда он стал молиться, то лицо его сделалось яркое, как солнце, и осветило все окрестности… И вместе с ним явилось среди туч и темени светлое облако, а из него вышли два пророка… И голос Бога-Отца сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте». И стали называть это событие Преображением Господним, а потом и Яблочным Спасом, потому что к этому времени поспевали яблоки. Готовясь к Спасу, дедушка мой, набожный и строгий со всеми нами, каждый раз назидательно говорил, что яблоко на дереве вначале хилое, зеленое, незрелое. А к осени созревает, напитается соками, зарумянится, и становится крепким. Вот так и человек: может быть некрасив, греховен, слаб душой и телом, но если праведно живет, то и преображается своею душой в настоящего человека.
Несмотря на то что еще немного времени прошло с тех пор, как Людвиг Ла Гранж вышел в поход, вошел в армейскую жизнь, в нем многое изменилось. В выражении его лица, поведении, разговорах с товарищами. Внешне за это время ничего не осталось от пансионского, не очень уверенного в себе молодого человека. В эскадроне он возмужал, окреп физически, тверже стоял на ногах…
…Пани Ядвига сидела на небольшом диване с шитьем в руках. Слушала своих постояльцев, и видно было, что понимает их разговор и даже одобряет, потому как, забывшись или не выдержав, вдруг кивала головой и произносила лишь одно слово: «Добже, добже»…
И все так было мирно в комнате с белыми салфетками в провинциальном польском доме…
* * *
* * *
В этот рейд день был коротким. Шуршал дождь, потом превратился в стеклянную стену, потом спускался густой туман, повис на ветвях елей, ноги людей и лошадей скользили по мокрым отполированным корням старых деревьев, а то вдруг погружались в какую-то топь. И хотя этот мокрый день