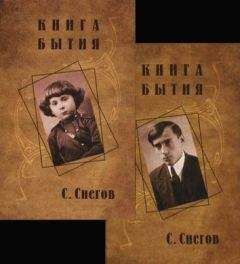— Кого будешь исполнять? Чайковского? Кого-кого? Это же помещик, крепостник! Да ты понял ли, что задумал? Мы шашками их рубали, кровь свою проливали, чтоб под корень всех… А теперь им дорогу, хлопать им, да? Пока я жива, не будет!
Конечно, факт вопиющий. Но предписанный настрой был таков, что подобное могло случаться — в том самом порядке исключения, который иногда становился правилом.
Только могущественнейшее государство могло добиться такого удивительного результата: художественная литература стала развиваться назад. Правда, она умножалась. Страна бурно преодолевала вековую неграмотность, насыщалась образованием, как губка водой, и остро нуждалась в книгах. И книги ей дали. Сначала те, что уже были. Затем — новые, все ниже уровнем. Каждое старое издание становилось редкостью, вещью для избранных, тайной святыней. Иногда государство просто-напросто запрещало того или иного автора. Максимилиан Волошин горько сказал:
Мои уста давно замкнуты. Пусть!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, но тетрадкой.
Но если власть отменила Волошина, поэта такой гражданской мощи, какой еще не знала наша литература, то на Ахматову, Цветаеву, Анненского, Бальмонта, Кузмина, Мандельштама и других прямых запретов не было. Но и они, стираясь в художественном полубытии, становились избранностью — с каждым годом их все меньше знали, все меньше читали, все реже вспоминали. «Довлела дневи злоба его» — стратеги новой социалистической литературы действовали безошибочно.
А те, которые продолжали существовать, либо закономерно мельчали, либо вступали в борьбу с собой и присоединялись к посредственности.
Владимир Маяковский, начавший гениально и мощно, по собственному признанию, «наступал на горло собственной песне». Человек, создавший горделивое обращение к миру:
Эй, вы, небо! Снимите шляпу.
Я иду. Глухо.
Вселенная спит, положив на лапу
Клещами звезд огромное ухо, —
заканчивал гораздо более полезными в быту стишатами, имевшими к поэзии такое же отношение, как веник к виолончели:
Товарищи люди!
Будьте культурны.
На пол не плюйте,
А плюйте в урны.
Сейчас модно разыскивать убийц для поэтов, пошедших на самоубийство. Это попытка оправдать свое время, общество, самих себя, заставляющих талантливых людей отказываться от собственного таланта.
Маяковского погубило чувство неосуществленности. Я могу его понять, ибо неосуществленность терзала меня всю жизнь. Впрочем, мне было гораздо легче. Маяковский начал с колоссального взлета, все дальнейшее было непрерывным поступательным превращением из гиганта в посредственность. Я стремился в великие из ничего. Не вылез — грустно, но не повод для самоубийства. Он безмерно и неудержимо падал — пуля в собственное сердце означала долгожданную остановку в литературном самоуничтожении.
Еще разительней трагедия Есенина. Он сам назвал грядущую причину своей непростительно безвременной смерти:
С горы идет крестьянский комсомол
И под гармонику, наяривая яро,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна! Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна
Да и, пожалуй, сам я больше здесь не нужен.
Окололитературное дурачье, выискивая, на кого персонально взвалить вину за гибель поэта, вместо общества, губившего творчество, придумало какого-то неведомого злодея, подобравшегося к Есенину исподтишка, а после, стало быть, написавшего за него стихи, — дабы закамуфлировать убийство под самоубийство.
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, без руки и слова.
Не грусти и не печаль бровей.
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
И ни один из сыщиков не заметил, что, отрицая самоубийство Есенина, они ставят перед историей новую, несравненно более трудную загадку, чем простое самоустранение поэта, осознавшего, что он лишний в мире Пролеткультов и Демьянов. Кто автор стихотворения-камуфляжа? Оно же великолепно! Кто он, совместивший гений и злодейство? Почему от него не осталось никаких следов, кроме потрясающих по силе строчек и тела жертвы?
О царской России говорили, что она — тюрьма народов. Советская Россия была тюрьмой талантов. Страшная угроза «Незаменимых нет!» господствовала в мире интеллекта. В Толстые, в Пушкины, в Рафаэли, в Шекспиры назначали особым, запротоколированным решением ЦК родной партии. В гигантской стране успешно воплощали культурный идеал философа-кавалериста прошлого столетия полковника Скалозуба:
Ученостью меня не обморочишь…
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам.
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете, так мигом успокоит.
И успокаивали. Вначале социальным отвержением, тривиальным голодом — просто не печатали. И равнодушно прислушивались к тем, кто корчился от невоплощения.
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?[40]
Общее падение культурного уровня интеллигенции, стимулируемое свыше, сказывалось и на той молодежи, которая шла в культуру на роль ее будущих мастеров.
В конце двадцатых годов вышел в свет сборник О. Мандельштама (он состоял из двух книг — «Камень» и «Tristia»).
— Памятник захудалого рода, — с сожалением сказал один из моих друзей.[41] — Интересно, но не захватывает. Теперь нельзя так писать.
— Нельзя, — подтвердил я. — Мир, отдающий нафталином. Вполне согласен: такие стихи больше никого не волнуют.
Впоследствии этот мой друг стал не только знатоком поэзии Мандельштама, но и добрым его приятелем. Он писал отличные стихи в том же «нафталинном» духе, и, попав в непечатаемые, пробавлялся переводами национальных поэтов. И вынужден был скрывать свою высокую поэтическую культуру, приобретенную не при помощи Государственного литературного института, а вопреки ему.