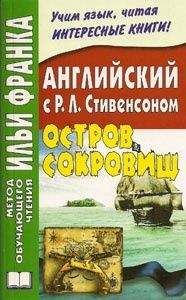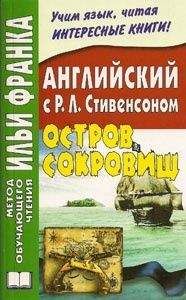Пророчество, заглядывание в большее время (стихийное выражение его можно наблюдать в церемониях святочных гаданий) в отношении Александра Сергеевича можно определить как поэтическое таинство: он вслушивался во время, разбирал его скрытые ритмы. До него доносилось эхо общего события, которое он в сосредоточенном помещении ссылки различал тем более отчетливо. Его пророчество выражалось в авторском сопереживании с эпохой. Михайловское сосредоточение обернулось преображением, такого рода «омосковлением» автора, когда Москва и ее царская тема были им примерены на себя. Пушкин «присвоил», поглотил своей рифмой историческую Москву, одел царские одежды на себя — пусть игровым образом, нарядившись для сцены самозванцем. Эта его игра зазвучала, отзываясь по всей московской сфере, возвращая ему эхо рифм и «московские» слова. Пушкин совпал с Москвой, его «праздный» год своим очерком повторил ее сакральный контур. Так повернулось ее колесо во времени, так она вдохнула и выдохнула временем; в этом движении слишком многое оказалось предопределено.
* * *
В первую очередь в московском «округлом» пророчестве Пушкиным различается царская жертва. Тут прямо слышен константинопольский сюжет: Второй Рим тем и был занят, что сличал и сводил судьбу кесаря с Христовой судьбой. Его церемонии, его цикличный календарь были сверстаны согласно этому центральному сюжету. Москва его унаследовала; московский царь принимает Христову участь: подходя под венец, принимая ответственность за Москву как царство во времени, он заведомо жертвует собой.
Все это прямо или косвенно прописано у Пушкина: его «Годунов» в какой-то мере представляет собой пропись обряда, который начинается долгими отказами Бориса принять царство, его венчание, возвышение (пропущенное в тексте между 1598 и 1603 годами) и крах, неизбежный, как кара за убийство невинного царевича, законного московского государя. Этот круг царских страстей Годунова весь есть в трагедии; он расписан по пунктам. То, что происходит на этом круге за пределами пьесы, в ней упоминается не однажды. Поэтому весь жертвенный круг царя Бориса налицо.
Начиная со второго такта (1603 года) Пушкин запускает второй, теневой круг царских страстей — приключения самозванца. К ним он, как завзятый бунтовщик, со всей душой присоединяется: в переложении годуновского сюжета на его, александровскую эпоху он, Пушкин, и есть самозванец. С отставанием на полкруга начинается этот второй цикл. Автор втягивается в игру, похоже, не особо заботясь о том, к чему это может привести. Но вот ему являются сомнения, по мере действия нарастающие. Постепенно для него и его героя открывается Москва — и открывается грех, ими обоими совершаемый.
Очень важно это сознание греха: Пушкин, возвращающийся к вере, преображаемый своим же сочинением, открывает для себя новую ответственность — уже не поэта, но пророка. Удивительное состояние: он все более прав в своем поэтическом ясновидении и все более в своих глазах греховен. Пушкин в процессе сочинения «Годунова» оказывается полярно раздвоен; его преображение к осени заканчивает эту эволюцию сознанием полной правды — о своем творческом подвиге и своем преступлении.
Пьеса заканчивается двойным апофеозом: со знаком плюс — Борис повержен, убийца умер (не от меча, а от сознания своего греха), и со знаком минус — толпа врывается в Кремль, заговорщики-бояре убивают Федора и Ксению Годуновых, и народ кричит славу новому царю Димитрию [73] (славу поэту Пушкину?) над трупами невинно убиенных царских детей. Кремлевское колесо повернулось: царь умер — новый царь вознесся, для того, чтобы очень скоро, через один оборот колеса жертвенным образом погибнуть.
Так классическим образом сюжет царской жертвы проявляет себя в пьесе Пушкина. Полный оборот совершен, вселенная сомкнулась и разомкнулась, время совершило в сфере Москвы свой законный пульс — ай да Пушкин! Он в самом деле не поэт, но пророк.
И вот Пушкин хлопает самому себе — и вдруг доходит до него известие, что настоящий царь умер, заклание состоялось наяву. Стало быть, Пушкин сам на том же жертвенном кругу. Он, играя, искал царской участи и добился ее: ему явился зверь времени и открыл пасть. Сочиняя, преображаясь, округляясь московским «яблоком», Александр открылся ему — открылся следующей жертвой в большем, внешнем времени.
Судьба пророка есть заклание самого себя; прояснив себе взор во внешнем времени, он понимает, что оно аморфно, дособытийно, разлито противоречивой (переполненно пустой) массой вакуума. Из него посредством жертвенного, по образу и подобию Христова пророческого усилия извлекается событие, как очеловеченная форма времени, форма осознанного бытия.
В нашем случае — это пушкинская форма московского времени, московского бытия.
* * *
Остается добавить, что весь этот сюжет разворачивается в большей по отношению к Пушкину сфере языка. Его, языка, потенциальное (по сей день не развернутое) пространство нас интересует: его геометрия, предрасположения и неизбежности. Эта сфера сфокусирована на Александре Пушкине; его поэтическое преображение 1825 года становится ее, сферы языка, центральным, «Христовым» событием. На нашем «чертеже языка» все складывается достаточно закономерно и по-своему объективно: бумажного «царя» в нескольких поколениях выбирают московские читатели. Их суммарный, акцентированный выбор в высокой степени объективен — в этом выборе со всей возможной силой сказывается оптика русского сознания. И так же объективно и неизбежно прочитывается сюжет пушкинской участи, пушкинской жертвы.
Этой участи избежал Карамзин; еще раз — создается впечатление, что он осознанно от нее отстранился. Пушкин принял ее. До 1825 года она не была ему открыта во всей ее ответственности и драме, в сюжете «царской» жертвы. Для ее прояснения ему потребовалось написать «Годунова» — и услышать в известии о смерти Александра I совершенное ее подтверждение.
Еще бы он не пришел в восторг, еще бы не ужаснулся: то и другое чувства были верны. Александр заслужил того, чего добивался. Бумажное царство, бездонная Москва перед ним опасно отворилась. Она увидела поэта; Москва и есть зверь времени.
Жизнь усложнилась необыкновенно. Зеркало страницы, на которой (за которой) видно все, было обнаружено на столе летом — письмо Вяземскому, где на первой строчке написано трагедия, а на второй — комедия. Зеркало текста было выставлено летом — теперь Александр увидел в этом зеркале себя. Преображенным, в красной (жертвенной) рубахе, в виде яблока.