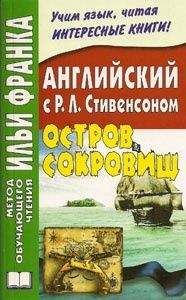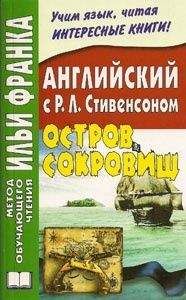Похоже, комедия о московской беде — теперь уже о всероссийской беде, о трясении Руси при перемене царства — не вся еще написана. Год еще не кончен, стало быть, представление продолжается. Царь Александр умер, «утонул», на сцене выставлены декорации настоящего бунта.
Декорации настоящего — это ничего. Это по-петербургски. Нет — по-годуновски, по-русски.
Московские прозрения, которое Пушкин испытал, пишучи «Годунова», заставляют его по-новому взглянуть на Петербург. Оплот русской рациональности, плацдарм Европы, выставленный с ее стороны, точно балкон, в сизые пространства Азии. Александр, следуя примеру своего тезки царя, долгое время был примерным петербуржцем. Но вот Пушкин в царе разочаровался; он отторгнут от Петербурга и ответным образом готов его отрицать.
* * *
Пушкин смотрит из Михайловского: из глубины — снизу вверх на обе русские столицы. Обе они, Москва и Петербург, теперь в его видении; также и пространство, их обнимающее, ему видно. Это умноженное видение Пушкин приобрел в результате сводного опыта — сложенных вместе московских прозрений и петербургских расчетов. Он освоил письмо у «зеркала», когда необходимо писать иразмышлять одновременно. Пушкин не отказывается, у него и мысли нет отказаться от европейского (Карамзин сказал бы — Лафатерова) «зрячего» подхода к творчеству. Нет, именно такое его творчество полно.
* * *
Москва и Петербург конфликтны и одновременно необходимы друг другу. Они дополняют друг друга, как категории движения и покоя. Москва есть покой, а Питер — вечный вектор.
Движенья нет, сказал мудрец брадатый,
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Эти двое (не мудрецы, но столицы) вместе несводимы; всегда найдется неуловимо малая между ними трещина, не поддающаяся простому исчислению. Но при всей их несводимости они представляют части одного целого; этим целым Пушкин более всего теперь обеспокоен.
Обстоятельства ссылки принудили его к покою. Это было тяжкое испытание, проходя которое, Пушкин освоил московские рецепты движения в недвижении. Так освоил, что сделался пророком, всевидцем, который, не сходя с места, обещает кончину царям и перемену участи стране. Но, едва он достиг этого (московского) совершенства, перед глазами его нарисовалась манящая питерская стрелка: друзья позвали его на бунт — прямой, настоящий, тот, о котором он столько лет с ними грезил.
* * *
Случись это год назад, Александр полетел бы в Петербург, не задумываясь. А теперь он словно замер. Концовка петербургской пьесы о настоящем трясении трона не то чтобы ему неясна. Она давно всем ясна; с 20-го года (эту ситуацию мы уже разобрали) петербургский республиканский проект становится анахронизмом. С 20-го года Европа отступает из России, конституционные надежды меркнут. Московское царство берет верх; мы рассматриваем этот процесс с точки зрения обустройства нового языка, оптики народного сознания, и находим, что в России возрождается характерное московское сознание, возрождается традиционная, «центростремительная», цареградская логика бытия. И самым показательным примером этой эволюции становится пушкинский опыт, выраженный в явлении «Годунова», прямо связанный с михайловской духовной метаморфозой, преображением самого Пушкина. Поэтому так ясен преображенному Пушкину итог грядущего бунта, на пять лет опоздавшего против своего времени. В Петербурге готовится анахронизм, действие «не в рифму», обреченное на провал и имеющее смысл только как жертвенный жест, героическая дерзость для памяти потомкам.
А Пушкин уже надерзил довольно, сыграл в самозванца и понял, чем в Московии заканчивается подобная игра. Понял, увидел, различил в работе московского колеса (времени), возвышающего и свергающего царей.
Не страх заставил Пушкина замереть в Михайловском после призыва идти на Петербург с бунтом. Он поехал на бунт; дурные приметы заставили его вернуться. Все они известны: дважды выбегал на дорогу заяц, в деревне заболел работник, наконец, встретился поп — все, дальше ехать некуда. Но все это поверхность и мелочи, от которых Александр в другой ситуации попросту отмахнулся бы. Его заставило поколебаться внутреннее несогласие с сюжетом пьесы, непомещение себя в этот сюжет.
В письме Плетневу, в те же дни (4–6 декабря), внезапно: Душа! Я пророк, ей-богу пророк! — но это как будто о другом: как бы только дам взбуторажить, чтобы заступились за него и выписали в столицы.
Будто бы он пророчествовал о гибели тирана в «Шенье».
Кто с этим спорит? Только теперь, в декабре, что вспоминать о прошлогоднем прогнозе? Теперь пришла другая зима, и он, назвавшись пророком, обязан различить то, что совершится в ближайшие две недели.
Совершится шаг нового самозванца в яму, под пушки нового царя. Петербург провалится в самое себя, в то «европейское» пространство, которое по сей день проектно пусто, потому что русская плоть в Москве, опять в Москве.
* * *
Теперь легко судить задним числом, зная, чем закончилось восстание декабристов. Есть подозрение, что Пушкин различил это заранее, пережил сомнения, разнимающие его пополам, так что весь он закачался на весах: ехать, не ехать — и остался.
Ужасный внутренний раздор: вот как, очень скоро развернулась ситуация концовки «Годунова», когда он самому себе хлопал и сразу вслед за тем ужасался — своему достижению и своей участи. Да, он обнаружил у себя дар поэтического пророчества. Магический кристалл был им найден — и жег руку. Яма между осенью и зимой, ноябрьский ад, едва успела зарасти снегом и вот опять открылась.
Лист у пророка взял и порвался, обнажил шевеление хаоса. Два зайца выскочили из прорехи, стреканули, следя чернилами, со страницы вон.
Он остался дома.
Новоиспеченный медиум пугается теперь всякого знака, могущего быть истолкованным как предвестие. В нем поселяется страх судьбы уже начертанной; верх берет суеверие, и раньше ему не чуждое, но теперь подтвержденное собственным запредельным, потустраничным опытом.
До конца дней оно его не отпустит.
Оставшись, Пушкин пишет «Графа Нулина» — точно в дни восстания. Это можно расценить как ответ на вопрос, почему он не поехал в Петербург. После события преображения, после «Годунова» «Нулин» — первое постсобытийное сочинение.
Демонстративное, показывающее ту дистанцию, которую Пушкин будет теперь держать от всякой столичной акции.
Пора, пора! рога трубят… — и в самом деле, словно по его сигналу, начинается бунт в Петербурге.