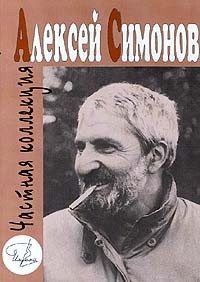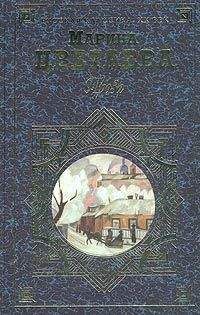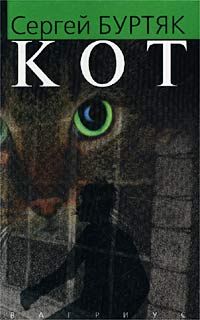Через внутреннюю верность поведения каждого персонажа родилась простая и удобная для всех, в том числе и для оператора, мизансцена, родилась как бы сама собой и, не будучи ни новаторской, ни изысканной, все же верно выражала суть происходящего. Когда мы отрепетировали, Олег справился у меня, сколько времени сцена идет, а потом сказал:
— Господа артисты (любимое его обращение), если мы с вами сыграем ее всю на минуту короче — мы будем гении, если на полминуты — только таланты.
И они сыграли сцену быстрее на сорок две секунды. Помню эту цифру.
Поэтому меня нисколько не удивило, когда спустя какое-то время после окончания картины я узнал, что Даль уходит в кинорежиссуру. Это было закономерно. Как закономерно и то, что он в нее в итоге не ушел, ибо режиссура — это терпение, а Олег слишком большую часть своего терпения вынужден был истощать на себя самого. Да и не наигрался Даль даже после Шута в «Короле Лире», даже после Печорина, слишком многое оставалось по внутреннему актерскому счету несыгранным. Впрочем, как говорил наш великий поэт, «что ж мечтанья — спиритизма вроде». Как знать: он ведь ушел от нас накануне своего сорокалетия.
Картину нашу мало кто видел. «Зачем нам разрушать романтический стереотип, сложившийся в представлении советского зрителя об Арктике 30-х годов?» — эта фраза одного из принимающих прозвучала как комплимент, но одновременно и как некролог. Премьеру в Доме кино не разрешили. Не дали копии. Нет, картину по телевидению все-таки показали. В пору летних отпусков, днем, по тогдашней четвертой программе, спустя полтора года.
Хорошая она была или не удалась? Не знаю, я ее люблю. А как одну из самых больших похвал ей вспоминаю слова Олега, которого — одного из немногих — я ухитрился застать по телефону в Москве и предупредить о показе.
— Получилось, Ляксей, — сказал Олег. — Серьезно, получилось
Комментарий экскурсовода
Помимо уроков Даля, «Арктика» дала мне целую школу, ту самую, насчет безвыходных положений: меня закрывали, отстраняли, не пускали в одну экспедицию и посылали в другую, на картине менялись оператор, художник, три директора и т. д. и т. п. В довершение (а если по хронологии, то, считай, с этого началось) у Влада Заманского, на которого была написана одна из главных ролей, после двух съемочных дней обнаружили открытую форму туберкулеза, и он слег, надолго — для такой картины, как эта, — навсегда. Месяц я искал ему замену, а съемки шли, а Заманского подменял дублер, я его сажал спиной, а сам никак не мог внутренне «отстроиться» от Влада, всё искал ему подобного. Но у всех подобных был один очевидный недостаток: они были похожи, отчего становилось особенно неприемлемо, что это — не Заманский. Это, знаете, как после смерти отца я стал особенно на него похож — так все говорят. А на самом деле я остался памятью о нем и, глядя на меня, люди видят не меня, а его. Но с ним уже не сравнишь, вот и возникает ощущение жуткой похожести — одно лицо, хотя на самом деле это вовсе не так.
Так вот, пока я не понял, что в кино подобное подобным не лечится, что клин надо выбивать клином, я мучился этот месяц, пока, наконец, не появился Олег Анофриев, под которого пришлось менять всю концепцию его роли, все мотивировки конфликтов. Вот уж кто на Заманского был непохож ничем, кроме — вот тут мне, наконец, повезло — габаритов, ему костюмы оказались впору, а значит, кое-что из снятого с дублером удалось потом использовать. Размеры-то те же, а картина в результате этой замены получилась более жесткая, но менее отчаянная, может, потому она все-таки один раз по ЦТ прошла, прежде чем на полку лечь. И еще из-за Симонова-старшего, хотя руки у него были связаны: не хотел и не мог делать лишние телодвижения, защищая картину сына, считал это неэтичным. Хотя меня как режиссера только на этой картине и признал.
СЧАСТЛИВЧИК ЛЕНЯ БЫКОВ
Не могу толком объяснить, почему, но вот уже несколько лет преследует меня чувство, что я перед ним в долгу. Мы не были друзьями, даже особо близкими знакомыми. В памяти — всего несколько встреч, в архиве — два коротких письма, оба с отказом сниматься в фильмах, куда я его приглашал, а вот поди ж ты — невыполненность долга перед его памятью постоянно напоминает о себе. (Приглашал я его сниматься и в следующую свою игровую, тоже на «Ленфильме», картину «Вернемся осенью».)
Может быть, кто-то уже сказал о нем то, что болит во мне, но я этого не читал, и «энергия заблуждения» толкает меня сказать о том. что кажется мне самым важным, самым главным — его невольным, невысказанным завещанием, уроком, который он выстрадал всей своей жизнью.
Жизнь Леонида Быкова в кино — это высокая трагедия, понимаемая в классическом значении этого слова: поле жизни, где на наших глазах шла борьба между героем и судьбой. Борьба с переменным успехом и трагическим исходом, о котором позаботился наш техницизированный век.
Мне сразу слышатся голоса недоумевающие, вопрошающие, сомневающиеся: Леонид Быков — и борьба с судьбой? Удачник, жизнелюб, любимец зрителей — и трагедия? Эко вы хватили!
Нет, я твердо знаю, что это именно так — иначе не взялся бы за перо. Я услышал от Быкова в первый день нашего знакомства в самом начале 60-х годов: «На мне весь средний советский кинематограф держится». И сказано это было грустно и просто, без бравады или иронии. Кинематограф наш совершал открытия, бурно возрождался после периода малокартинья, а на периферии главных направлений снимались симпатичные, славные, милые картины — безбрежное поле деятельности для симпатичного, славного и милого артиста Лени Быкова. Сколько было