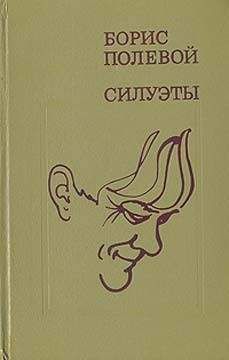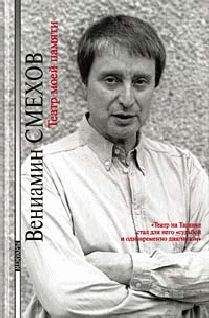— За пешеходов!
Но и попадая за рубеж, неутомимый пешеход этот всегда оказывается более, чем кто-либо из нас, осведомленным обо всем, что мы видели вокруг, осведомленным настолько, что профессиональным гидам оставалось лишь поддакивать ему да удивляться тому, что этот седовласый иностранец так хорошо знает их края. Вот и теперь, в поездке по Индии, которая завершается этим полетом, мы не уставали слушать его рассказы о Дели, о нравах и обычаях страны, о пещерах Аджанта, о храмах Бангалора, о великих скульптурных памятниках Махабалипурах. И в этих обширных знаниях проявляется его благородный интерес ко всему лучшему, что создал человек на земле…
В рейсе своем наш самолет догоняет солнце, удлиняя сутки. Сейчас по-прежнему сияет день. И все же чувствуется — Москва близка. Бронзоволицая стюардесса уже обходит пассажиров, потчуя их леденцами, зернышками имбиря и американской жевательной резинкой. На стене кабины вспыхивает надпись, требующая на трех языках, чтобы мы пристегнулись.
Спутники начинают просыпаться. Проснулся Николай Семенович. Как старый солдат, он умеет как-то разом, без всяких переходов, шагнуть от сна к бодрствованию. Вот и сейчас, обведя веселым взглядом помятые со сна физиономии, он будто бы продолжает начатый где-то над Индией рассказ:
— …А вы знаете, что случилось с нами однажды в Пакистане? Любопытнейшая история. Как она могла произойти? Послушайте, послушайте!
Но в первый раз я не слушаю, вероятно, весьма интересную историю, ибо тороплюсь дописать этот свой заоблачный репортаж.
Николай Жуков
Когда, вспоминая, я думаю о моем давнем и добром друге художнике Николае Николаевиче Жукове, которого уже нет среди нас, всегда выплывает из памяти такая картина.
Разгар Сталинградской битвы. Хмурая осенняя Волга. В воде отражаются дымы негаснущих пожарищ. Знаменитая 62-я переправа, бомбардируемая с воздуха, обстреливаемая из-за реки тяжелыми снарядами. Балочка безымянного ручья, впадающего в реку, и тихая нервная человеческая суетня в этой балке.
Здесь, под защитой ее глинистых откосов, скапливаются для переправы подразделения сибиряков, перебрасываемых из фронтового резерва туда, за реку, в пекло незатухающей битвы. Сейчас они тут, в пестрой осенней зелени Ахтубинской поймы, а через малое время им предстоит под обстрелом пересечь реку и сразу же оказаться на передовой, среди закоптелых развалин, над которыми не уставая гуляет смерть. Это тот рубеж, где проходят пробу истинные человеческие качества солдата.
На берегу у причала принимает на борт части пополнения старенький, видавший виды, израненный речной трамвайчик, на столбе — дощатый круг какого-то навигационного знака, тоже обрызганный осколками. На нем теперь плакат: солдат в пилотке лежит у пулемета, нажимая гашетку. Он ведет огонь, этот пожилой солдат, и на лице его, напряженном до судороги, такая ярость, что ясно — он стоит насмерть, что никто и ничто не оторвет его от боевой работы. Я не помню слов, написанных на этом плакате, да они и не нужны, слова. Зато отчетливо вспоминается, что вокруг плаката все время до самой погрузки теснились солдаты, словно накапливая в этом тихом сосредоточенном созерцании свои нравственные силы перед теми испытаниями, которые ждали их в пылающем и громыхающем городе за хмурой озябшей рекой.
И еще отчетливо помню, что в нижнем уголке этого плаката стояло «Н. Ж.». Две такие знакомые мне буквы, означавшие — Николай Жуков.
Н. Ж.! Сколько графических листов, картонов, сколько портретов, зарисовок, иллюстраций, плакатов, сколько тончайших акварелей оставил этот человек, уйдя из жизни. И все они, эти портреты, зарисовки, иллюстрации, надолго останутся жить, и в них остается жить их автор, умевший вкладывать в любую свою работу частицу самого себя, свою душу, свою мысль, свою мечту. И образ его, жизнерадостный образ веселого, подвижного, деятельного, немножко суетливого, но при всем том организованного, целеустремленного, доброго, отзывчивого человека, с незатухающей юмористической искрой в узеньких зорких глазах, живо встает передо мной, как только увижу я эти заветные «Н. Ж.».
Мы познакомились с ним на Калининском фронте в суровую вьюжную зиму сорок первого года. В какой-то дивизионной газете увидел я боевые зарисовки, исполненные необыкновенно точным и четким пером. Несмотря на несовершенства походных цинкографий, зарисовки эти сразу привлекли внимание, и не только мастерством исполнения, но и каким-то зорким проникновением во фронтовой быт. Заветные буквы «Н. Ж.» ничего еще мне тогда не говорили. Заехал в редакцию, поинтересовался:
— Кто это у вас так здорово рисует?
— Как, вы не знаете? — с удивлением и даже с некоторой обидой переспросил редактор. — Конечно же Николай Жуков… ну, тот самый, что иллюстрировал книгу «Воспоминания о Марксе».
И сразу припомнились мне действительно интересные иллюстрации этой книги, которые убедительно вводили человека сегодняшнего дня в середину прошлого столетия, в эпоху Маркса и Энгельса. Разумеется, захотелось познакомиться с художником.
— А он в редакции не сидит, он всегда в частях.
— Ну и на каком участке?
— А кто его знает. Наверное, там, где горячо. Последние рисунки попутный офицер связи привез из… — Редактор назвал деревню. Мы отыскали эту деревню на карте. Действительно, это было место, где в те дни шли ожесточенные бои. — У него принцип, — продолжал редактор, — что-то вроде идеи фикс: все надо видеть своими глазами. Между прочим, научился рисовать в рукавицах, как-то там булавкой прикрепляет к теплой рукавице карандаш.
— Почему же в рукавицах? — задал я нелепый вопрос.
— Так холодно же там, на открытом воздухе, костров-то на передовой не зажигают.
Мне еще больше захотелось познакомиться с этим художником, что научился рисовать в рукавицах. Но знакомство состоялось позже, уже весной, когда Политуправление фронта, к которому его тогда прикомандировали, находилось в маленькой тверской деревеньке Ульяновка.
В те дни я только что вернулся из немецкого тыла, от земляков, из непокорившихся сел, продолжавших жить в тылу врага по советским законам, из партизанских деревень, прятавшихся в болотном краю, куда неприятель не показывал и носа. Был канун Первого мая. Я вылетал к этим непокоренным людям, чтобы забрать их коллективное письмо, адресованное Центральному Комитету партии, в котором писали они о своем нелегком и героическом житье-бытье. А вернувшись к себе «домой», то есть в Ульяновку, и выпарившись в курной баньке, узнал, что художник Жуков тоже только что вернулся от партизан с другого направления. И увидел я его в полной партизанской справе, в ватнике, в какой-то шапчонке с торчащими в разные стороны лохматыми ушами, загорелого, небритого, в разбитых кирзовых сапогах, с сосульками волос, нависающими на высокий белый, не тронутый загаром лоб. Он всерьез напоминал одного из тех героических партизан, с которыми я только что встречался.