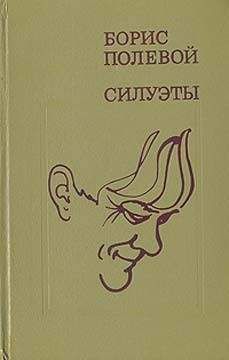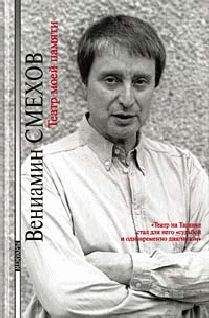И тут мелькнула мысль: а что, если к тому коллективному письму, что я завтра повезу в «Правду», упросить его сделать иллюстрацию?
— Ну, а срок? Вчерашний день, наверное? — не без иронии спросил он.
— Не вчерашний, но завтрашний. Завтра к утру рисунок должен быть готов. Самолет в Москву вылетит на заре.
— Ну что ж, попробуем, — согласился новый знакомый и рассыпал на столе целый веер зарисовок, на обрывках бумаги, на обложках школьных тетрадей. Зарисовки были торопливые, сделаны явно в спешке, но во всех них поражала точность лаконичных линий, зоркость художественного видения.
— Сделаю. Но попрошу создать для меня творческие условия, — произнес он, хитро поблескивая узенькими своими глазами и складывая в трубочку пухлые губы.
— Что за условия?
— Ввиду спешности заказа и сложности работы, которую придется выполнять ночью, — литр.
Ну что ж, человека, пришедшего в этот день из неприятельского тыла, понять было можно. В отряде партизан-железнодорожников, у которых он побывал, мы знали, был очень строгий комиссар, провозгласивший «сухой закон». Литр горючего на такую гуманную культурную цель мы всей корреспондентской братией не без труда выпросили у скуповатых деятелей военторга. Выдали его нам почему-то в микрокупюре, в бутылочках, какие когда-то интеллигентные люди называли «мерзавчиками».
Десять «мерзавчиков» выстроились на подоконнике избы перед столом, к поверхности которого был уже пришпилен лист ватмана.
— И еще условие, братья писатели, над душой не стоять и в затылок мне не дышать… Гуляйте там, на улице.
Утром, когда на посадочной площадке уже трещал мотор вездесущего самолета «У-2», который должен был отнести в Москву письмо непокоренных моих земляков, я появился перед окном жуковского обиталища. На подоконнике стоял всего только один «мерзавчик», а за ним виднелась кудрявая голова, опущенная над столом. Потом последняя склянка исчезла, и в окне появился Жуков. Он сдул с листа сучужки резины, отставив руку, пощурился на свое произведение. Подмигнул сам себе и, протянув мне в окно готовую композицию, заявил:
— Вези, а я пошел спать.
Сидя в кабине самолета, державшего курс на Москву, я не раз осторожненько, чтобы встречный ветер не вырвал и не унес, развертывал и рассматривал этот довольно широко известный теперь рисунок, помещенный в свое время на первой странице «Правды» и известный под названием «Утро в партизанском лесу». Сложную, добрую и правдивую во всех деталях композицию, как бы сфокусировавшую в себе десятки эскизов, торопливо набросанных на клочках бумаги и на обложках ученических тетрадей…
В дни войны художник был воином, яростно сражавшимся с оккупантами силой своего профессионального оружия. Из-под его карандаша выходили зарисовки, книжные иллюстрации, листовки, обращенные к немецким солдатам, адресованные их уму и сердцу. И, наконец, плакаты, подобные тому, что видел я у Сталинградского причала.
Художник Жуков воевал неутомимо. Ему поручили возглавить студию военных художников имени Грекова, организованную еще до войны по инициативе К. Е. Ворошилова. Он собрал вокруг нее целое, так сказать, соединение молодых военных художников, которые учились, совершенствуя свое мастерство, учась, рисовали и писали на злобу дня, вместе со своим командиром искусно сражались с врагом пером и кистью. У Николая Жукова трое хороших детей. Но студию Грекова он всегда считал самым беспокойным и любимым своим детищем. Он отдавал ей все свое свободное время.
И было вполне логично, даже закономерно, что этот неутомимый художник-солдат был после войны командирован в немецкий город Нюрнберг, где победившие народы судили главных преступников второй мировой войны. Я прибыл на этот процесс с небольшим опозданием, когда Жуков со своей, щедро отпущенной ему общительностью, или, как говорят теперь, коммуникабельностью, уже врос в международный журналистский быт, завел себе множество друзей, а главное, успел сделать серию портретных зарисовок основных подсудимых.
Помнится, при первом моем появлении в зале суда меня больше всего поразила обыденная внешность тех, кто занимал скамью подсудимых. На первый взгляд, это были даже весьма респектабельные господа: военные с хорошей выправкой, почтенные бюргеры — отцы семейств. Но в тот же день Николай Николаевич, который здесь, в дружеском кругу, уже приобрел американское прозвище «Кока-Кола», извлек из папки свои зарисовки. Сохраняя с большой степенью точности их внешность, художник сумел при этом извлечь, вытащить откуда-то из душевных глубин и зафиксировать истинную сущность всех этих господ, сорвать с них маски обыденной благопристойности. И вот сила настоящего искусства: в зале суда ничего не изменилось, подсудимые остались теми же, но я уже видел их такими, какими запечатлел их Кока-Кола.
Там, в Нюрнберге, начал я писать книгу об Алексее Маресьеве, идею которой вместе с тетрадкой записей проносил с собой всю войну, начиная с Курской битвы. Написав первые страницы, распираемый нетерпением поскорее выложить на бумагу все, что давно уже созрело в голове, рассказал я другу одиссею необыкновенного летчика и идею своей задумки. Жуков, умевший чутко откликаться на любое явление искусства, слушал меня с нетерпением. Слушал и торопил.
— Ну, ну, и дальше… Как там… Ну и что получилось…
Мы гуляли с ним по аллее парка карандашного короля Иоганна Фабера, в дворце которого располагался тогда пресс-кемп, в буквальном переводе — лагерь прессы, где обитали в дни процесса журналисты всех стран света. Шел мягкий баварский март. Подснежники, крокусы проклевывались наружу, поднимая серый слой уже погнившей листвы. Пылили сережки орешника, и, сбросив снежные одеяла, просыпалась земля, дыша в лицо бражным ароматом прелой травы.
— Нет, в самом деле очень интересный сюжет… Плюнь на все и пиши. Пиши так, чтобы из всех щелей пар шел. Напишешь, возьмусь иллюстрировать.
С этого дня утром, когда мы встречались около умывальников, он вместо приветствия спрашивал:
— Ну как, идет? Какую главу смолишь? Что теперь делает твой летчик?
А потом он сдержал слово. Взялся иллюстрировать книгу. И тут, часто встречаясь, наблюдая за его работой, я постиг, с какой страстью вгрызается в жизнь этот жизнелюбивейший мастер. Не доверяя воображению, он искал и находил в жизни людей, похожих по внешности, по характеру на того или другого героя. Живого Алексея Петровича Маресьева он рисовал много раз. Иногда, отвечая на телефонный звонок, я слышал возбужденный голос:
— Здравствуй! Радуйся, нашел Зиночку… Великолепная Зиночка… Заглядишься…