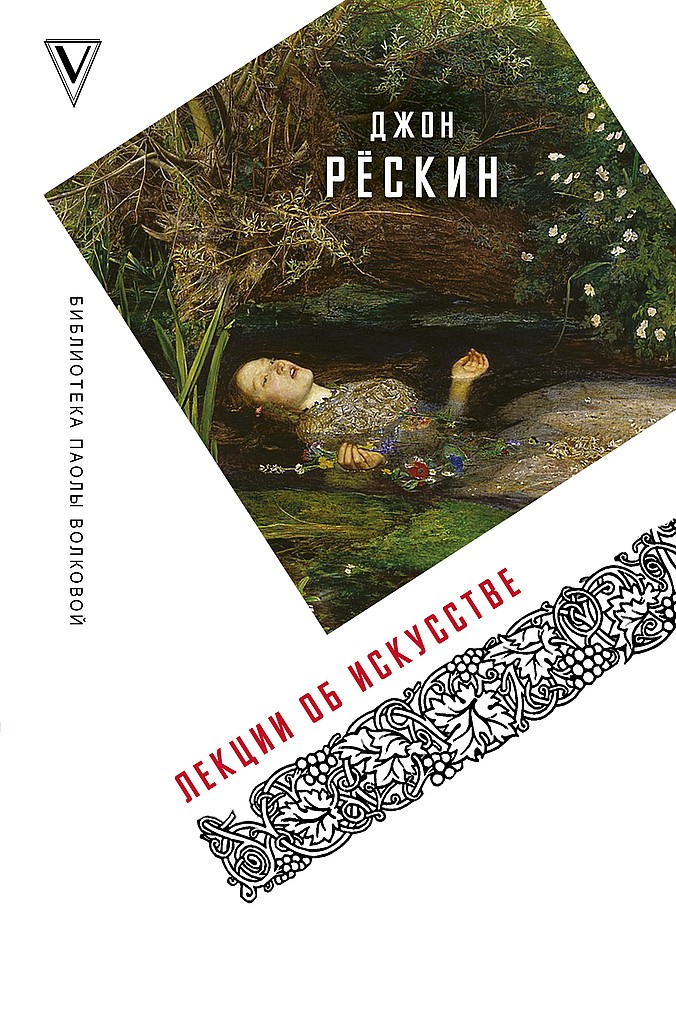§ 3. Трудность надлежащего разделения сюжета
оказывают такое же влияние на волны и пену моря: сделать общий обзор систем, которых держатся каждая школа и каждый художник в отдельности при изображении воды, будет удобнее, чем посвятить отдельные главы на обозрение манеры писать озера, реки и моря у всех их вместе. Мы поэтому изменим наш обычный план и рассмотрим манеру писать воду древних художников, затем современных и, наконец, Тернера.
Необходимо предварительно изложить вкратце одно — два оптических условия, которые имеют влияние на вид поверхности; чтобы описать их все, потребовалось бы специальное исследование,
§ 4. Недостаточность изучения водяных эффектов у всех художников
даже если бы я обладал необходимыми знаниями, которых я не имею. Случайные изменения, под которыми проявляются обычные законы, — неисчислимы и часто по своей чрезвычайной сложности необъяснимы даже для людей с самым широким знанием оптических явлений. То, что я здесь изложу, составляет несколько самых широких законов, которые могут быть проверены непосредственным наблюдением читателя, но с которыми, тем не менее, многие художники, как я нашел, совершенно незнакомы благодаря своей привычке писать с натуры, не думая или не рассуждая, а в особенности благодаря привычке кончать этюды дома. Мне кажется, не часто случается, чтобы художник срисовывал отражения в воде так, как он их видит; над большими пространствами и в не особенно тихую погоду это почти и невозможно; когда же это возможно, то иногда вследствие поспешности, а иногда вследствие лености, иногда же с мыслью «усовершенствовать природу» они размазываются или передаются неверно. Придать подобие тихой воды так легко, что даже когда ландшафт с натуры кончен, вода просто обозначается как нечто такое, что можно сделать в любое время, a затем при домашней работе являются холодные, оловянные, серые цвета у одних, резкие, синие и зеленые — у других, горизонтальные линии у слабых, яркие мазки и блестки у ловких, а в общем мелкое и заурядное у всех, а на самом деле едва ли найдется придорожный пруд или лужа, которая не заключала бы столько же ландшафта в себе, сколько над собою. Пруд этот не есть та коричневая, грязная, бесцветная вещь, какой мы ее себе представляем, он имеет сердце, подобно нам, и в глубине его — ветви высоких деревьев, стебли волнующейся травы и всякого рода оттенки разнообразного приятного света, падающего с неба. Скажу больше, безобразная канава, которая стоит над канализационными преградами в сердце гнилого города, не совсем гадка, если всмотреться в нее достаточно глубоко. Вы можете увидеть темную серьезную синеву далекого неба и чистые облака, когда они пробегают мимо. От вашей собственной воли зависит видеть в этом презираемом потоке либо отбросы улицы, либо изображение неба. Точно так же бывает и со всеми другими вещами, которые попали к нам в немилость и которые мы презираем. Вот эта-то широта взгляда как раз и составляет разницу между великим и обыкновенным художником. Заурядный человек знает, что придорожная лужа грязна, и рисует ее грязь, великий же художник видит под коричневой поверхностью и позади нее нечто грандиозное, и вот, чтобы разгадать это нечто, он затратит целый день работы, но он все-таки добьется своей цели, чего бы это ему ни стоило. Пусть художник выйдет на ближайшее поле, возьмет ближайший грязный пруд среди вереска и тщательно срисует его; пусть не думает при этом о том, что он рисует воду и что вода должна быть сделана по известным приемам, — пусть твердо задастся целью нарисовать то, что он видит, иначе говоря, все деревья, все их дрожащие листья, все туманные полосы беспорядочного солнечного света, и дно, видимое в более чистых маленьких кусках, возле края, и камни дна, и все небо и облако далеко внизу посреди пруда, вырисованные так же полно, как настоящие облака наверху, — тогда художник придет домой с таким понятием об изображении воды, которое избавит и меня, и всякого другого от необходимости писать что-нибудь об этом предмете, но художники ничего подобного не делают; они думают, что так и нужно писать безобразную, круглую, желтую поверхность, или же «совершенствуют» ее дома и вместо того, чтобы передать облагороженное сложное, нежное, но печальное и угрюмое отражение в загрязненной воде, они подчищают ее грубыми желтыми, зелеными и синими штрихами и, портя свои собственные глаза, заставляют болеть наши, а достигнуть чистого света волны на свободе для них, конечно, совершенно невозможно. И воображают, что Каналетто писал каналы, а Вандевельде и Backhuysen — море. А непонятые потоки и обесславленное море шипят, как бы желая пристыдить нас, из всех их каменистых лож и низких берегов.
Я подхожу к этой части моего предмета с более угнетенным чувством, чем к какой бы то ни было другой, по нескольким причинам.
§ 5. Трудно трактовать об этой части предмета
Во-первых, живопись воды у всех более старых пейзажистов, кроме нескольких более выдающихся произведений Клода и Рюисдаля, настолько противна, настолько невыразимо и необъяснимо плоха, a лучшие произведения Клода и Рюисдаля настолько холодны и бесцветны, что я не знаю, как и говорить с теми, которым такая живопись нравится; я не знаю, каковы их чувства по отношению к морю. Я ничего не могу заметить в Вандевельде или Backhuysen‘е такого, что могло бы хоть что-нибудь сказать в их пользу: нет ни силы, ни присутствия ума, не видно способности к самому малейшему наблюдению; нет хотя бы самого слабого сходства с чем-нибудь естественным; нет изобретательности, даже самой незатейливой, чего-нибудь приятного. Если бы они передавали нам бросающиеся в глаза зеленые моря с топорными краями, такие хотя бы, какие мы видим в Королевской академии, где насажены носами или кормами корабли Ее величества, то восхищение ими было бы понятно, так как в уме человека бывает естественная слабость к зеленым волнам с вьющимся верхушками, но не к глине и шерсти; поэтому я до некоторой степени могу понять, почему люди восхищаются всем другим в старом искусстве, почему они восхищаются скалами Сальватора, или передними