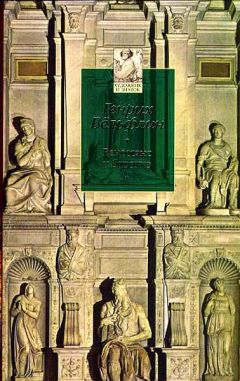Но и в этом случае искусству отводится лишь второстепенная роль в обслуживании закона: истинная роль искусства, которая, по мнению Гегеля, состоит в том, чтобы быть инструментом, посредством которого отличия первоначально манифестируют себя и облекаются в форму, эта роль в настоящее время устарела.
Но, как я уже упоминал, Кьеркегор показывает, как институция, задачей которой является репрезентация отличий, также оказывается способна их создавать — новые отличия, отличающиеся от всех известных отличий. Теперь я могу более четко сформулировать, что именно понимается под новым отличием — отличием по ту сторону всех отличий, о котором я говорил раньше. Это отличие не в форме, а во времени — иными словами, в протяженности жизни индивидуальных вещей, равно как и в их положении в истории. Вспомним понятие «нового отличия», каким его описал Кьеркегор: для него разница между Христом и обыкновенным человеком того времени состояла не в различии формы, способной быть описанной искусством или законом, но в неощутимом отличии между коротким временем человеческой жизни и бесконечностью божественного существования. Если я перемещу в качестве редимейда какой-либо обыкновенный предмет из повседневности в музей, я изменю не его внешнюю форму, но его жизненный срок, и одновременно привяжу его к определенной исторической дате. Предмет в музее существует и сохраняет свою первоначальную форму дольше, чем в реальной жизни. Именно поэтому предметы в музее кажутся более живыми и настоящими, чем в реальности. Когда я сталкиваюсь с каким-либо предметом в самой жизни, я тут же предчувствую его гибель, момент, когда он будет сломан и выброшен. Жизнь определяется ее конечностью. Таким образом, продление срока существования предмета приводит к его тотальному изменению в отсутствие видимости такового.
Это отличие в сроке жизни между музейным объектом и обыкновенной вещью сдвигает наше внимание от внешнего вида предметов к механизмам их реставрации и в целом — к их физической сохранности, к осознанию их материальности. Вопрос о сроке существования музейных объектов также обращает наше внимание на социальные и политические условия, при которых эти предметы были собраны в коллекцию и тем самым получили гарантию долголетия. В то же время музейные правила поведения (и табу) делают невидимыми механизмы поддержания сохранности предметов. Как известно, модернистское искусство стремилось всеми средствами выявить внутреннюю, материальную сторону произведений искусства. Но в музее мы по-прежнему можем наблюдать экспонаты только с их внешней стороны: за их поверхностью нечто всегда остается скрытым. В то же время посетитель музея неизбежно оказывается вынужденным подчиниться ограничениям, продиктованным стремлением сохранить музейные экспонаты. Мы сталкиваемся здесь с интересным случаем внешнего во внутреннем — все, что касается реставрации и сохранения произведений искусства, выставленных на обозрение в музее, остается скрытым. В определенном смысле в стенах музея мы имеем дело с еще более радикально недостижимой бесконечностью, чем в мире за его пределами.
Но даже если физическую сторону сохранения экспонатов в музее невозможно выявить полностью, тем не менее остается возможным тематизировать ее как нечто невидимое и скрытое. Как пример применения подобной стратегии в практике современного искусства, можно привести работу двух швейцарских художников — Питера Фишли и Дэвида Вайсса[26]. Краткого описания будет достаточно, чтобы проиллюстрировать мою мысль: Фишли и Вайсс выставляют объекты, сильно напоминающие редимейды — обыкновенные предметы, такие, какими мы их видим в быту. Однако эти предметы не настоящие редимейды, а симуляции: они выполнены из легкого пластика полиуретана, но с такой швейцарской точностью, что если вы столкнетесь с ними в контексте художественной выставки, то только значительным усилием внимания вам удастся отличить предметы, сделанные Фишли и Вайссом, от настоящих редимейдов. Если бы вы впервые увидели их, скажем, в студии Фишли и Вайсса, то могли бы взять их в руки и взвесить — но в музее вам без привлечения к себе внимания персонала и охраны этого сделать, разумеется, не удастся, поскольку прикасаться к экспонатам запрещено. В некотором смысле можно утверждать, что именно охрана и полиция гарантируют поддержание различия между искусством и неискусством: новости о конце истории до них еще не дошли.
Работы Фишли и Вайсса, тематизируя материальное, но невидимое отличие между «настоящим» и «симулированным», делают очевидным тот факт, что материальная сторона любого выставочного экспоната всегда остается скрытой. Музейные таблички информируют посетителей о том, что объекты Фишли и Вайсса являются именно «симулированными», а не настоящими редимейдами. Однако проверить эту информацию посетитель музея никак не может, потому что она относится к скрытой материальной сути предметов, а не к их внешней форме. Это означает, что нововведенное здесь различие между настоящим и симулированным не соответствует какому-либо визуальному различию между предметами на уровне их формы. Как бы ни хотели этого художники и теоретики исторического авангарда, произведение искусства не может выявить собственной материальности. Подобное отличие может быть тематизировано в музее лишь как таинственное и не поддающееся репрезентации. Симулируя практику редимейда, Фишли и Вайсс обращают наше внимание на материальную составляющую искусства, в то же время не полностью выявляя ее. Различие между реальным и симулированым может быть не узнано, но лишь заявлено, ибо любой предмет в мире можно рассмотреть одновременно и как реальный, и как симулированный. Мы можем тематизировать дистанцию между реальным и симулированным, только поставив под сомнение материальный медиум, материальную составляющую, материальные условия существования этого предмета. Работы Фишли и Вайсса демонстрируют темную бесконечность материального, скрытую внутри музея: бесконечное подозрение, что все его экспонаты потенциально могут оказаться подделками. Из этого также следует невозможность — даже в воображении — поместить в музей «тотальность видимой реальности». Возможность реализовать старую ницшеанскую мечту эстетизировать весь мир — до полного слияния мира и музея оказывается недостижимой. Музей создает свои собственные точки невидимости, свои темные зоны, в нем культивируется атмосфера подозрения, неуверенности и тревоги относительно всего того, что обеспечивает сохранность экспонатов и в то же время ставит под угрозу их аутентичность.
Искусственная долговечность, гарантированная предметам, собранным в музейной коллекции, всегда является симуляцией: она достижима только путем технической манипуляции их скрытой материальной составляющей. (Любая реставрация является технической манипуляцией и как таковая — неизбежной симуляцией.) Приходит время, когда любое произведение искусства погибает: изнашивается, ломается, распадается, подвергается деконструкции, разбирается на составные части. В гегельянском видении вселенского музея материальная вечность заменяет бессмертие души и вечность божественной памяти. Но подобная материальная бесконечность, разумеется, только иллюзия. Музей как таковой темпорален, даже если собранные в нем работы могут быть исключены из общей циркуляции и обмена и тем самым ограждены от опасностей бытового существования. Такая консервация, однако, не может быть абсолютно успешной (а если и может, то лишь на относительно короткое время). Произведения искусства гибнут, и достаточно часто — в войнах, природных катастрофах, несчастных случаях, от времени. Физическая неизбежность разрушения и конца любого произведения искусства накладывает ограничения и на понятие истории искусства. Однако подобное ограничение является противоположностью конца истории. На чисто материальном уровне контекст искусства находится в перманентном движении, и мы не в силах полностью проконтролировать, отрефлектировать или тем более предугадать этот процесс, так что все материальные изменения вещей застают нас в конечном счете врасплох. Историческая саморефлексия искусства находится в зависимости от скрытой, недоступной для рефлексии материальности музейных предметов. И именно потому, что материальная судьба искусства закрыта для спекулятивных размышлений, оказывается необходимым переоценивать и переписывать историю искусства заново.
Даже если материальная сохранность отдельного произведения искусства на некоторое время гарантирована, его статус принадлежности к искусству всегда остается зависим от контекста его презентации в музейной коллекции. Однако обеспечить стабильность этого контекста на длительное время предельно сложно, а точнее — просто невозможно. Это является истинным парадоксом музея: музейная коллекция служит сохранению артефактов, однако сама по себе она нестабильна. Коллекционирование — действие, протяженное во времени par excellence. Музейная коллекция находится в перманентном движении: она не только расширяется, ее внутренняя организация также постоянно меняется. Соответственно параметры для различения старого и нового и определения произведения искусства как такового также непрерывно меняются. Такие художники, как, например, Майк Бидло или Шерли Левин, прибегая к технике апроприации, демонстрируют возможность сместить историческое позиционирование той или иной художественной формы путем смены ее материальной поддержки (support). Репродукция или воспроизведение известных произведений прошлого нарушают всю структуру исторической памяти. Обыкновенный зритель не способен различить между оригиналом Пикассо и Пикассо, апроприированным Майком Бидло. В этом случае, как и с дюшановскими редимейдами или симулированными редимейдами Фишли и Вайсса, мы сталкиваемся с невизуальным отличием и в этом смысле с отличием заново сконструированным — между работой Пикассо и его копией, созданной Бидло. Инсценировка подобного рода отличия может произойти исключительно в музее, в контексте организованной определенным образом исторической репрезентации.