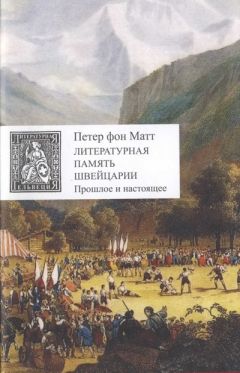Однако было бы неправильно видеть в литературных произведениях о виновном коллективе прежде всего дискурс, направленный на критику демократии. Большинство известных мне примеров такого рода открыты для разных толкований. Они задуманы как социально-психологические этюды и занимают — по-разному его обыгрывая — промежуточное положение между веселой юмореской, резкой сатирой и подлинным трагизмом. Это можно показать, проанализировав описание сообщества горожан в первой и второй частях сборника новелл Готфрида Келлера «Люди из Зельдвилы» (1856 и 1874/1875). По отношению к причудливому сообществу зельдвильцев никому поначалу и в голову не придет применять понятие «виновный коллектив». И все-таки ощущение их общей виновности постоянно как бы витает в воздухе — при чтении второй части оно даже усиливается. В первой части зельдвильцы изображаются не без иронии, потому что не принимают современных норм поведения, живут в соответствии с докапиталистическим принципом удовлетворения сиюминутных желаний и не хотят признавать бытовой аскетичности, характерной для буржуазного мира. Во второй же части они предстают перед судом рассказчика, именно потому что отказываются от этих своих изначальных особенностей и все в большей мере поддаются соблазнам такой экономики, которая основана на безудержной эксплуатации и разрушении ресурсов. Сложность образа этого маленького сообщества объясняется главным образом амбивалентностью той нравственной оценки, которую дает им сам автор. Они предстают перед нами то как последние люди, еще отваживающиеся проживать повседневную жизнь празднично, то как «зельдвильские бездельники», если воспользоваться словами крестьянина Манца из новеллы «Сельские Ромео и Джульетта»[100]. Кульминация этой великолепно-переливчатой двусмысленности — финал новеллы «Три праведных гребенщика». Здесь все жительницы и жители Зельдвилы собираются среди бела дня, чтобы поглазеть на состязание гребенщиков. Они устраивают праздник, наслаждаясь мучениями двух мастеровых с зачерствелыми душами, которые из-за своей жадности и завистливости становятся всеобщим посмешищем. В результате получается настоящий уличный спектакль — демонстрация ликующего злорадства и человеческого убожества, — который автор изображает во всем его акустическом многообразии. У ворот Зельдвилы двое соревнующихся начинают драться и, не прекращая мутузить друг друга, пересекают весь городок, сопровождаемые чудовищным смехом восхищенных такой потехой зельдвильцев:
Они плакали, всхлипывали, голосили, как дети, и кричали в невыразимом отчаянии: «О, Господи! Пусти! Господи Иисусе! Пусти, Иобст! Пусти, Фридолин! Пусти, окаянный!» При этом они, не переставая, били друг друга по рукам и в то же время лишь медленно продвигались вперед. Они потеряли шляпы и палки, двое мальчишек несли их, насадив шляпы на палки, перед ними, а позади их катилась беснующаяся толпа. Все окна были заняты дамским обществом, и серебристый женский смех переливался над бушующим внизу прибоем. Давно уже город не был в таком веселом настроении. Это шумное развлечение так понравилось зрителям, что ни один человек не указал борющимся соперникам на их цель — дом хозяина, до которого они наконец добрались. Сами же они не видели его, они вообще уже ничего не видели, и так эта неистовая толпа прокатилась через весь городок и выкатилась в противоположные ворота[101].
Разумеется, противные гребенщики получают заслуженное наказание, и в этом смысле поведение зельдвильцев становится орудием справедливости. Однако беда обоих отчаявшихся соперников так велика, а их последующий конец так ужасен — один из них вешается, другой становится беспутным бродягой, — что у читателя смех застревает в горле. И только сами зельдвильцы никак не могут закончить праздник:
Весь город, пришедший в возбуждение, но уже забывший причину своей радости, весело праздновал эту ночь. Во многих домах танцевали, в трактирах пировали и пели, как в дни больших городских праздников. Ибо зельдвильцам достаточно было маленького повода, чтобы мастерски устроить увеселение.[102]
Это веселье, которое даже забыло о своем поводе и, значит, о судьбе двух спровоцировавших его людей, обретает неприятный оттенок. Оно становится безжалостным и бесчеловечным. Увлажненные вином души зельдвильцев внезапно предстают в не менее двусмысленном свете, чем зачерствелые души гребенщиков, и теперь уже не кажется, что понятие виновного коллектива не имеет к ним отношения.
Свойственная зельдвильцам культура удовольствия снова предстает как нечто бесспорно позитивное в новелле «Дитеген»[103]. Здесь она контрастирует с законами и обычаями беспощадно-жестокой системы правления, существующей у жителей соседнего города Рюхенштейн. Дымка двусмысленности, окутывающая зельдвильцев в других новеллах цикла, здесь уступает место четкой оппозиции между дружелюбием жителей Зельдвилы и жестокостью, негуманностью рюхенштейнцев. Последние являются воплощением понятия «виновного коллектива». Они кажутся монотонно-злокозненными, словно злодеи в сказках[104]. Образ их мрачного сообщества получается упрощенным. Правда, само наличие такого образа еще раз подтверждает интерес Готфрида Келлера к рассматриваемому нами мотиву, но для анализа микроструктуры текста это мало что может дать.
Виновное сообщество: Фриш
Зато такого не скажешь о концепции Андорры у Макса Фриша. Я имею в виду не только одноименную пьесу, но и начавшуюся гораздо раньше разработку литературного проекта, который, по аналогии со сборником новелл Келлера, можно было бы назвать «Люди из Андорры». Началось это сразу после войны, в 1946 году, в рамках «Дневника с Марионом». Дневник был опубликован еще в Швейцарии, в 1947 году. Цюрихский издатель Мартин Хюрлиман не собирался публиковать продолжение, тогда как Петер Зуркамп, задумавший основать во Франкурте новое издательство[105], уговаривал Фриша такое продолжение написать. Зуркамп распознал в этой книге большой литературный и интеллектуальный потенциал. Продолжение вышло в 1950 году (вместе с переработанной первой частью) под заголовком «Дневник 1946–1949» — в только что созданном издательстве «Зуркамп».
Концепция Андорры, фигуры кукольника Мариона и «культурного Папы» Цезарио — три доминирующих фиктивных элемента в «Дневнике с Марионом». Примечательно, что все три больше не упоминаются в продолжении дневника, написанном в 1948–1949 годах. Марион — персонаж, наделенный чертами биографии Фриша: мечтательный художник из сельской местности, который приезжает в город, пространство публичности, чтобы получить аудиенцию у Цезарио. Он соотносится с самим Фришем так же, как вымышленная Андорра — со Швейцарией, а Цезарио — с Эдуардом Корроди, тогдашним шефом отдела фельетонов в «Новой Цюрихской газете»[106]. Стилизация собственной личности под наивного кукольника, который в один прекрасный день кончает жизнь самоубийством, повесившись, стилизация Швейцарии под страну Андорра и изобретение фигуры Цезарио, как воплощения господствующих в этой стране консервативных представлений о культуре, — все это позволило Фришу создать многоплановый, богатый аллюзиями текст. Вероятно, к 1947 году фигура Мариона действительно исчерпала свои потенциальные возможности; концепция же Андорры оставалась раздражающе-фрагментарной. Фриш вернулся к ней еще раз, когда взялся за написание знаменитой впоследствии пьесы «Андорра» (1961). Так же медлил Фриш и с заключительной атакой на «принцип Цезарио», которую он предпринял только в Рождество 1966 года, вступив в легендарную полемику с Эмилем Штайгером[107]. Но и Марион тоже относится к концепции Андорры. Он был художником именно в Андорре, и он терпит крушение в Андорре. А что имя его не упоминается после 1947 года, связано, может быть, с тем, что сам Макс Фриш, совершив акробатическое сальто, избежал грозившего ему в Швейцарии краха: чуть не за одну ночь он стал одной из ведущих литературных фигур молодой ФРГ. «Дневник 1946–1949», отклоненный швейцарским издателем — из страха перед Корроди и из солидарности с ним, — заложил фундамент для последующей славы Фриша.
В этой первой разработке концепции Андорры Фриш уже предвосхитил позднейшую аллегорию Дюрренматта о Швейцарии-тюрьме[108]. Вот как, например, описывается «андорский герб»: «Геральдическая крепость, в ней — плененная змеюка, которая ядовитой пастью кусает собственный хвост»[109]. В этой эмблеме сочетаются противоположные смыслы. С одной стороны, змея, кусающая собственный хвост, это уроборос — древний символ, известный еще в эпоху античности. Он обозначает завершение, новое начало и возрождение. Такое толкование не лишено смысла, если вспомнить, что книга написана автором, который, сочиняя ее, находился, можно сказать, именно в процессе линьки, собираясь сменить прежнее существование на новое. Марион вешается, но Максу удается совершить сальто.