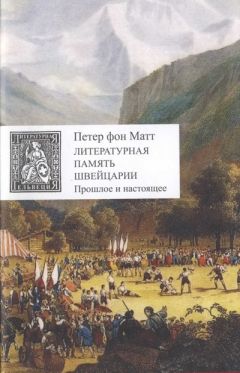В драматургии сцен возвращения мелкие детали часто важнее, чем крупные события. Пример тому — Ульрих Брекер, «бедный человек из Токкенбурга»[122], самый человечный образ швейцарской литературы. Брекер тоже побывал в шкуре возвращающегося и благодаря этому стал писателем. Описание того, как после войн Фридриха Великого (в которых его, коварно обманув, принудили участвовать) он возвращается домой, неоценимо для истории нравов. На последних холмах перед родным Токкенбургом Брекера захлестывает счастье от ощущения своей защищенности. Он знает: спустившись вниз, он уже будет дома, и там его ждет любимая Анхен:
Когда же я, подходя все ближе и ближе к дорогому моему Ваттвейлю, одолел наконец живописный холм, с которого совсем близко внизу можно было видеть колокольню его церкви, вся душа моя затрепетала, и крупные слезы градом покатились по щекам. «О, желанное мое, благословенное место! Вот я и воротился к тебе, и больше никому и никогда нас не разлучить!» — так повторял я мысленно сто раз, скатываясь что было духу с холма, и не уставал благодарить Божье Провидение, каковое хоть и не чудесным образом, однако с великим тщанием уберегло меня от столь многих опасностей.
На мосту, что перед Ваттвейлем, со мною заговорил старый мой знакомец Гемперле, которому еще до моего ухода была известна моя любовная история. Первыми его словами были:
— Эй! А знаешь, Анна-то твоя уже продана. Кого она осчастливила, так это твоего двоюродного братца Михеля. Имеется уже и ребеночек.
Эта весть пронзила меня до мозга костей, однако перед вестником несчастья я и вида не подал[123].
На мосту, на самой границе родного пространства, Ульриху Бекеру встречается зло. Первый ответ на его ощущение счастья — человеческая холодность, прячущееся под лицемерной личиной злорадство. Но именно этим теперь оправдывается — в литературном плане — опьяняющая любовь к отчизне. Любовь не превращается в свою противоположность, а впервые распознается как мечта о целостности, которая в этот момент подвергается испытанию. Мечта — первое достижение такого осознания целостности, и она, в свою очередь, становится продуктивной. Мыслить целое и себя самого в нем — этот возвращающийся человек вести себя иначе не может. И Брекер действительно уже в следующую секунду даже себя начинает ощущать по-иному. Он сам удивлен, что сумел достойно перенести шокирующее известие: «И вправду, к своему великому удивлению, я быстро успокоился и про себя подумал: „Ну, что ж! Не ждал я такого от нее, но если уж так вышло, — что будешь делать! Пусть милуется со своим Михелем!“» Тот же жизненный опыт — что мечта о целостности подвергается суровому испытанию и при этом сама личность возвращающегося как бы перестраивается — отражен и в «Крестьянском зерцале» Готхельфа. Там тоже человек возвращается с чужбины, где он участвовал в чуждых ему войнах, и сквозь сияющие ландшафты идет к дому:
Передо мной простиралась моя родина. <…> Глубоко внизу, в долине, сверкал в лучах вечернего солнца громоотвод на крыше дедовского дома; сам этот гордый крестьянский дом, стоящий на откосе, я тоже видел — с его сияющими окнами; а перед домом видел наших швейцарских слонов: величавых коров на осеннем лугу. <…> Сердце мое расширилось: я бы с радостью обнял всех, кто находится там внизу, в родной долине.
Это момент мечты, переживания целостности. Здесь вернувшийся человек хочет отныне жить и приносить какую-то пользу. Он заходит в трактир; его никто не узнает; ему задают вопросы о войнах и битвах, а под конец спрашивают, как его зовут:
У меня заколотилось сердце, когда я назвал свое имя; сердце колотилось в робком ожидании — мне хотелось увидеть дружелюбные лица, услышать приветственные возгласы. Но люди смотрели на меня с испугом. «Я о тебе и думать забыл, никто не верил, что ты вернешься», — неслось со всех сторон. Посетители, один за другим, украдкой выскальзывали за дверь, боясь, что я попрошу их о чем-то — например, о ночлеге. <…> Вскоре хозяин остался со мной наедине, <…> на лице его явственно читался страх, что теперь какое-то время я буду обузой для него одного.
Всё та же холодность, с которой Брекер столкнулся на мосту перед Ваттвейлем. Но только этот возвращающийся, Майсс, — натура более необузданная. Его захлестывают гнев и жажда мести. Однако чуть позже говорится: «И тут во мне тихо шевельнулась другая сила, сила самосознания, ощущения собственной ценности…» А далее следует удивительная фраза: «Я простил этим обремененным заботами людям их страхи, вызванные другими людьми».
Что здесь намечено, как картина, — это двойной суд. Вернувшийся привлекает отчизну к суду — к сопоставлению со своей мечтой, — но вскоре замечает, что на таком суде подвергается испытанию и собственная его справедливость. Мечта о целостности и переживание границы, из которого такая мечта рождается, обостряют взгляд вернувшегося, позволяя ему увидеть слепоту местных жителей. Он осознает их ожесточенный прагматизм, из-за которого они всегда видят только грецкий орех, который в данный момент нужно расколоть, но не дерево, с которого падают эти жесткие плоды. Однако как только вернувшийся садится в судейское кресло — садится, имея на то полное право, — он понимает: предъявляемое другим людям обвинение в отсутствии у них широкого взгляда предполагает, что с той же точки зрения должен быть оценен и он сам.
Описанный выше парадокс судимого судии редко формулируется в литературных произведениях прямым текстом. Но он часто находит выражение в модусе повествования — как ирония по отношению к персонажам и их нравственному пафосу. Это очень заметно у Макса Фриша. Его различные возвращающиеся — будь то мужчина из текста «Цюрих — транзит», Исидор (аптекарь, сбежавший в Иностранный легион) или Анатоль Штиллер[124] — представляют собой комедийные фигуры, на которые падает столь же недобрый свет, в каком сами они видят своих соотечественников. Все эти невротичные интеллектуалы, занимающие маргинальное положение в обществе, сами участвуют — иногда толково, иногда беспомощно или истерично — в той смехотворной реальности, которой они пытаются поставить диагноз. И только поэтому то, что они имеют сказать, в литературном смысле оправдано. Как патриотическое воодушевление Брекера было бы китчем без эпизода пережитого им шокового потрясения при столкновении с холодностью земляка на мосту близ Ваттвейля, так же и поругания отечества были бы китчем, если бы их пафос не разбавлялся иронией. Даже старая дама Дюрренматта, чье право быть судьей обосновывается дерзкими метафизическими аргументами, впервые появляется на сцене, сопровождаемая смехом, как будто только что пришла, на ходулях, с какого-то фантастического карнавала. Особенно часто комизм бывает сконцентрирован в эпизодах первой встречи вернувшегося со швейцарскими полицейскими или таможенниками. Такая встреча великолепно описана в почти позабытом ныне романе Майнрада Инглина «Вендель фон Ойв». Классическим же примером подобной сцены является, несомненно, эпизод с оплеухой, которую Штиллер закатывает таможеннику на Базельском вокзале. После Фриша с этим мотивом многократно работал и Урс Видмер, а Хуго Лёчер превосходно обыграл ту же ситуацию в притче о группе индейцев из джунглей, открывающих для себя Швейцарию[125]. Такого рода швейцарский юмор всегда обретает подлинный смысл лишь в более широком контексте, связанном с мечтой о целостности и с критической проверкой этой мечты посредством ее применения к живому объекту.
Один из самых таинственных примеров придания легитимности патриотическим чувствам — прозаическая миниатюра Роберта Вальзера «Прибытие» (первый из пяти текстов, которые изначально задумывались как некое единство и имели общий заголовок «Возвращение»). Тут идиллия сама по себе обретает оттенок двусмысленности. Артистизм Вальзера позволяет ему запечатлеть наивное счастье от ощущения собственной защищенности: счастье, которое, из-за странных добавочных тонов, приближается к жутковатому ощущению, что ты проглочен или что тебя постепенно заглатывают. Это еще один пример диалектики материнского лона, которая ни в каком другом тексте не кажется такой осколочно-стеклянной, такой опасной, как здесь:
Я вдруг почувствовал чудную, радостную нежность к этой земле и ее людям. Земля и люди открывались мне так спокойно, так величаво. <…> Я все смотрел в окно, на пейзаж с фантастически-крутобокими, зелеными холмами, а поезд тем временем двигался дальше, нежно и тихо. Я никогда, никогда не забуду эту поездку. Божественно-прекрасным было то, как я и другие люди тихо въезжали, проскальзывали в горы. <…> Нация приблизилась ко мне; отечество и его возвышенная, златая идея своим дыханием овевали сердце. <…> О, то была прекрасная поездка по железной дороге, в компании мягко-снисходительных, умных, серьезных соотечественников, — поездка в обхваченность. Нас что-то обхватывало — скалами и горами. Миловидные, зеленые долины смеялись глубоко внизу, а с вершин гордо кивали благородные ели. Я видел дом, стоящий на склоне, и людей, которые шли по змеящимся тропинкам по направлению к лесу. Страна раскинула руки, и я, я упал в ее объятия, снова став сыном этой страны и одним из ее граждан. Постепенно сгущались ночные сумерки.