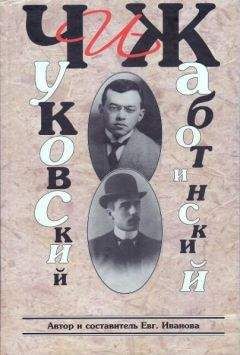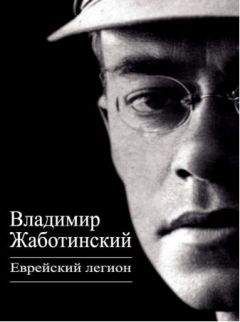Вл. Жаботинский. Урок юбилея Шевченко[240]
Удивительно, до чего люди непоследовательны. Когда мы произносим А, то по большей части и не думаем о том, что надо же в таком случае произнести и Б. Подходим к общественному факту так, как будто он изолирован, вырван из жизни и за собою никаких последствий не влечет. Вот теперь мы чествуем память Шевченко или, по крайней мере, откликаемся на чествование. Но при этом — никаких выводов. Не только у слушающих и у читающих, но иногда у самих пишущих не заметно, чтобы они хорошо вдумались, к чему обязывает признание этого юбилея. Ведь одно из двух: или Шевченко есть культурное недоразумение, филологический курьез и раритет, и тогда нет никакого смысла устраивать ему юбилеи; или Шевченко есть закономерное и характерное явление развивающейся жизни, симптом чего-то грядущего, и тогда каждому из нас необходимо, сказав А, произнести и Б, т. е., признав этот юбилей, определить свое отношение к тому огромному явлению, о неизбежности которого пророчествует нам этот юбилей. А об этом, кажется, мало кто думает. Может быть, объясняется это тем, что внутренне еще многие, многие из нас и впрямь потихоньку считают Шевченко за филологический курьез. Что греха таить, многие так рассуждают. Им это кажется причудой, капризом: знал человек прекрасно по-русски, мог писать те же самые стихи на «общем» языке, а вот заупрямился и писал по-хохлацки. Другие идут еще дальше и спрашивают: да разве есть какая-нибудь серьезная разница между обоими языками? Одно упрямство, одно мелочное цепляние за отдельные буквы. Что за причуда — писать непременно так: «Думы мои, думы мои, лыхо мини з вамы! Чому сталы на папери сумнымы рядамы?» — когда можно было с таким же успехом написать вот как:
Ах вы думы мои, думы,
Ах, беда мне с вами!
Что стоите на бумаге
Грустными рядами?
Один господин недавно взял при мне в руки томик стихов Олеся[241] и стал доказывать наглядно, что стихи эти можно читать сразу по-русски и выйдет почти все в полном порядке: и размер не изменится, и почти все рифмы сохранятся. Может быть, он и был прав: я его не дослушал до конца, и, пока он декламировал на московский лад: «Ой, на що ж малу дитину доручала ти степам?» — я задумался о другом. Я вспомнил, что Шевченко писал что-то такое и по-русски. Литераторы из газеты «Киевлянин» ставят ему это в великую заслугу и стыдят теперешних мазепинцев: видите, он не то, что вы, он «не чуждался общерусского языка»! Допустим: но зато странным образом «общерусский» язык чуждался украинского поэта, и не склеилось у него ничего путного на этом языке. И Шевченко не единичное явление. В 40-х годах жил в Риме большой поэт Белли: о нем, кажется, есть где-то упоминание у Гоголя. Он писал главным образом на римском диалекте. Римский диалект, не в пример другим местным наречиям Италии, почти совершенно совпадает с итальянским языком: если бы не скучно было для читателя, я бы взялся исчерпать все различие ровно в пятнадцати строчках. Но Белли писал на диалекте великолепные вещи, а на итальянском языке — вещи совершенно бездарные. Его сонеты на romanesko изумительны, его итальянские элегии водянисты, риторичны и позабыты. Тоже, очевидно, крепко заупрямился человек: так заупрямился, что и сам Бог его покидал, как только он в своем творческом порыве переступал через какую-то едва заметную межу, — и Белли, по сю сторону межи большой поэт милостию Божией, по ту сторону внезапно превращался в жалкого писаку…
Родной язык! Нужна вся наша российская наивность, неопытность, социальная необразованность, вся наша пигасовщина[242], весь грубо эмпирический площадной практицизм, исповедуемый нами по отношению ко многим священным вопросам духа, чтобы так делать большие глаза и недоумевать, зачем это нормальному человеку, при полном уме и здравой памяти, непременно упираться и настаивать на том, что говорится «свiт», а не «свет». Дурь, причуда! Мадьяры сколько лет ведут борьбу за мадьярскую команду в венгерской армии, а всего-то язык команды состоит ровным счетом из 70 слов. Из-за 70 слов падают министерства, откладываются важнейшие реформы, трещит по шву реки Лейты политическая карта Европы. В венгерском парламенте, среди четырехсот с лишком мадьяр, сидят сорок депутатов из Кроации и свято хранят свое право говорить с трибуны по-хорватски, т. е. на языке, которого никто, кроме них, не понимает и употребление которого в парламенте поэтому, казалось бы, не только бесполезно, но даже вредно для самого хорватского дела. Эти же хорваты подняли бунт, когда венгерское начальство попыталось завести в некоторых правительственных учреждениях Загреба, рядом с хорватскими вывесками, также и мадьярские: были уличные демонстрации, столкновения с войсками, лилась кровь… Дурь, причуда! — говорим мы, мы, захолустные обыватели захолустной страны, мы, с высоты нашего политического ума и опыта. А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят? Ведь тут пред нами целый ряд ярких фактов, то массовых, то еще более характерных, индивидуальных. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за семидесяти слов или десяти вывесок на чужом языке; вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог: сказать «свет» вместо «свiт», «buona sera» вместо «bona sera». Это все факты, непреложные явления жизни, которые не изменятся оттого, что мы будем их порицать или одобрять. Не порицать и не одобрять их надо, не ставить двойки или пятерки мировому порядку и его проявлениям, а скромненько учиться из них уму-разуму: брать жизнь такою, какой она есть в основе своей, и на этой основе строить наше мировоззрение.
Мимо факта шевченковского юбилея мы проходим с почтительным поклоном, и нам даже не приходит в голову, что это — факт исключительной симптоматической важности, пред лицом которого, если бы мы были разумны, опытны и предусмотрительны, следовало бы пересмотреть некоторые существенные элементы нашего мировоззрения. Что такое Шевченко? Одно из двух. Или надо смотреть на него как на курьезную игру природы, нечто вроде безрукого художника или акробата с одной ногою, нечто вроде редкостного допотопного экспоната в археологическом музее. Или надо смотреть на него как на яркий симптом национально-культурной жизнеспособности украинства, и тогда надо открыть пошире глаза и хорошо всмотреться в выводы, которые отсюда проистекают. Мы сами здесь на юге так усердно и так наивно насаждали в городах обрусительные начала, наша печать столько хлопотала здесь о русском театре и распространении русской книги, что мы под конец совершенно потеряли из виду настоящую, осязательную, арифметическую действительность, как она «выглядит» за пределами нашего куриного кругозора. За этими городами колышется сплошное, почти тридцатимиллионное украинское море. Загляните когда-нибудь не только в центр его, в какой-нибудь Миргородский или Васильковский уезд: загляните в его окраины, в Харьковскую или Воронежскую губернию, у самой межи, за которой начинается великорусская речь, — и вы поразитесь, до чего нетронутым и беспримесным осталось это сплошное украинское море. Есть на этой меже села, где по сю сторону речки живут «хохлы», по ту сторону — «кацапы». Живут испокон веков рядом и не смешиваются. Каждая сторона говорит по-своему, одевается по-своему, хранит особый свой обычай; женятся только на своих; чуждаются друг друга, не понимают и не ищут взаимного понимания. Съездил бы туда П. Б. Струве, автор теории о «национальных отталкиваниях», прежде чем говорить о единой трансцендентной «общерусской» сущности.[243] Такого выразительного «отталкивания» нет, говорят, даже на польско-литовской или польско-белорусской этнографической границе. Знал свой народ украинский поэт, когда читал мораль неразумным дивчатам:
Кохайтеся, любитеся,
Та не з москалями,
Бо москалi — чужи люде…
Я не разделяю теории П. Б. Струве и не думаю, чтобы «отталкивания» принадлежали к необходимым и нормальным жизнепроявлениям национальности; во всяком случае полагаю, что легализировать (в научном смысле) эти «отталкивания» следовало бы только с большими и суровыми оговорками. Я не считаю ни нормальным, ни вечным явлением тот антагонизм между великороссом и малороссом, который окристаллизован в простонародных кличках «хохол» и особенно «кацап»; уверен, напротив, что при улучшении внешних условий не только украинство, но и вообще все народности России прекрасно уживутся с великороссами на почве равенства и взаимного признания; даже верю, что большую и благотворную роль в этом сыграет именно великорусская демократическая интеллигенция — и недавно, в одной киевской лекции, подчеркнул эту веру настолько резко, что встретил даже несочувствие со стороны некоторых украинских слушателей. Но нельзя отрицать, что «отталкивание» от инородца есть один из признаков присутствия национального инстинкта, особенно там, где национальная индивидуальность, из-за внешнего гнета, ни в чем ином, ни в чем положительном выразиться не может. В таких случаях «отталкивание», наблюдаемое на этнографических границах, остается поневоле лучшим доказательством того, что угнетенная народность стихийно противится перелицовке своего естества, что истинные пути ее нормального развития тянутся в другом направлении. Таково стихийное настроение всякой большой и однородной массы; таково и стихийное настроение тридцатимиллионного украинского простонародья, сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из национальных оборотней. Эксперты этого рода столько же компетентны в оценке национальных чувств того народа, от которого они отстали, сколько компетентен дезертир в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал. Украинский народ сохранил в неприкосновенности то, что есть главная, непобедимая опора национальной души: деревню. Народу, корни которого прочно и густо впились на громадном пространстве в сплошную родную землю, нечего бояться за свою племенную душу, что бы там ни проделывалось в городах над бедными побегами его культуры, над его языком и его поэтами. Мужик все вынесет, все переживет, всех переспорит и медленно, шаг за шагом, но неуклонно и непобедимо со всех сторон втиснется в города, и то, что теперь считается мужицким говором, будет в них через два поколения языком газет, театров, вывесок — и еще больше.