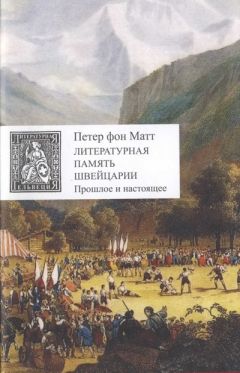Но не перегружаем ли мы лирическую миниатюру Мейера, пытаясь связать ее с такими вопросами? Не оказываем ли «слишком много чести» одиннадцати поющим монахам и их играющему на органе брату? Действительно ли эти строфы есть нечто большее, нежели порождение хорошего настроения — стихотворение, которое было легко и быстро написано и с той же быстротой и легкостью должно прочитываться?
Что предложенная интерпретация соответствует действительности, подтверждается историей возникновения «Прибрежного монастыря». Потому что всё началось с загадочного текста, о котором (как говорится в комментариях к Собранию сочинений) мы не знаем, принадлежит ли он самому Мейеру, или Мейер его откуда-то позаимствовал; не знаем даже, законченное ли это произведение, или рабочие заметки, или отложенный на будущее материал. «Происхождение неизвестно», — лапидарно отмечает Ханс Целлер, составитель упомянутого издания. Мейер трижды переписал странный отрывок на двух листах бумаги (записи следуют, с короткими промежутками, одна за другой) и даже начал переписывать в четвертый раз. Видимо, эти фразы его глубоко взволновали, захватили. Переписывал ли он их несколько раз для того, чтобы звучание чужого текста впиталось в его собственную манеру письма? Вот этот отрывок:
Я стоял однажды на берегу моря, рядом со мной все еще лежит раковина, которую я там подобрал. О этот морской берег, о глубокое море, о глубокая печаль, о безграничный морской простор, о мое безграничное тоскование! Ах, если бы я был монастырем на берегу острова и… смотрел бы на рокочущие волны, слушал бы завывания бури и крики цапли! Мои мысли, они были бы монахами, бродили бы во мне, по коридорам мозга, и покоились бы в крипте, в груди, — а чувства, они становились бы всенощной: пением, и звуками органа, и перезвоном колоколов. Пением и…
По тону это напоминает Брентано, «Монаха у моря» Клейста[179], тексты Ницше, но, по большому счету, не похоже ни на кого. Решающее значение тут имеет центральный фантазм: представление о собственной личности как о монастыре на берегу моря, населенном монахами; голова и грудь истолковываются — очень убедительно с точки зрения архитектоники — как коридоры монастыря и крипта. Мысли бродят по коридорам мозга, а чувства звучат, как пение и органная музыка. Живой человек в рамках такой картины становится неким множеством. Я есмь множество монахов, бродящих по коридорам, поющих, играющих на органе, мог бы сказать о себе этот человек. Как телесное существо я представляю собой каменное здание; а как мыслящая, чувствующая, творческая экзистенция я являюсь всеми жителями этой крепости одновременно. Мне приходится выражаться столь парадоксальным образом, чтобы сделать очевидной элементарную правду этого фантазма. Она похожа на знаменитое парадоксальное высказывание Рембо: «Я это другой» (Je est ип autre). Но в нашем случае можно было бы сказать: «Я это многие» (Je sont beaucoup).
Процитированный таинственный отрывок стал — что можно доказать — основой для рассматриваемого нами стихотворения. Стал той начальной искрой, из которой оно возникло (промежуточные ступени для нас сейчас не важны). Первоначальное меланхоличное представление, выраженное в форме желания — «Ах, если бы я был монастырем на берегу острова», — в какой-то момент превратилось для Мейера в триумфальное видение, которое он и запечатлел в десяти звучных строфах.
Возможность «перевести» собственную личность на язык архитектуры, увидеть себя как некое здание: такая практика известна нам по учению о снах. В литературе такое тоже иногда встречается, как осознанная или неосознанная аллегория: например, у Э.Т.А. Гофмана, у Эдгара По, а также у Регины Ульман[180] в ее раннем, жутковатом рассказе «Каменный дом». Но наиболее потрясающим образом этот прием использует Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф[181], в стихотворении «Заброшенный дом». Там разрушающиеся стены отражают разрушение собственной жизни, утраченное счастье и (посредством мучительно-точных знаков) не реализованные сексуальные потенции. У Мейера мы тоже видим руину, но — это еще один из парадоксов стихотворения — не поддающуюся дальнейшему разрушению. Монастырским «башням и стенам» ни море, ни время не могут причинить вреда, так же как и пению самозабвенно поющих обитателей руины. Более того: природа, которая вообще-то неудержимо разрушает все творения человека, не только не в силах ничего поделать с этими камнями, но даже как бы становится сестрой и монастырскому зданию, и пению. Об этом идет речь в последних четырех строфах. Дважды в день солнце приветствует поющих братьев, а их хоралы, как правило, звучат в унисон с гулом моря и дикими криками чаек.
Стихотворение в целом можно читать двумя способами. Первый предполагает ориентацию на человеческую судьбу Мейера; второй способ — поэтологический. В том и в другом случае мы сталкиваемся с парадоксом. На всем творчестве Мейера лежит отпечаток единого драматичного восприятия времени: представления, что между ночью и ночью имеется лишь короткий, трудный, залитый ослепительным светом отрезок пути. Из тьмы безумия и депрессий Мейер вынырнул к свету очень поздно, и он всегда знал, что тьма все еще ждет его[182]. В бесчисленных стихотворениях о пороге, ведущем к ночи, ведущем к смерти, Мейер пытался заклясть этот переход и отсрочить момент, когда ему снова придется переступить границу. Или он боролся (такие варианты темы производят страшное впечатление) с подкарауливающим его желанием — броситься в темноту самому, раньше предназначенного срока. Жизнь, страсть, счастье и искусство — все развертывается в этом промежутке, на этом «одном коротком, маленьком отрезке», как сказано в стихотворении «На Canal grande». А потом наступит конец, тьма. И останется лишь «невнятное бормотание».
На это сокровеннейшее знание Мейера и отвечает наше стихотворение. Оно признает неизбежность гибели, появления сарацинов, смерти; признает и разрушение тела, поскольку в нем рассказывается, как осыпается штукатурка с прекрасного свода: «Любому из нас, когда он всходит на хоры, / Сыплется известь на ребра — примета утрат». Но вместе с тем стихотворение прославляет неразрушимость песни. Парадоксальные образы неразрушимой руины и «не горлового» пения соответствуют древнейшему феномену равнодушия поэтов к собственной смерти при условии, что их произведение будет жить, что хотя бы оно сохранится: «Воздвиг я памятник вечнее меди прочной…»[183]; или, если воспользоваться словами Шекспира, «Покуда люди дышат, говорят, / Живут стихи, жизнь и тебе даря»[184]. Это не тщеславие. Это один из древнейших жестов искусства как такового. Гёльдерлин тоже просил у Парок: «Ещё одно лишь лето, владычицы!»[185] Поэтому физическая смерть, появление сарацинов, — для художника и в самом деле не более, чем форма аплодисментов.
Тут я уже перешел от человеческой судьбы несчастного Конрада Фердинанда Мейера к общей поэтологии. А с точки зрения поэтологии интересно само количество монахов. Их двенадцать, как апостолов (одиннадцать певцов и один органист), — но среди них нет учителя. Эти цифры повторяются пять раз — одиннадцать, двенадцать, двенадцать, одиннадцать, одиннадцать, — нагромождение, которое не может не удивлять, если иметь в виду, как экономно используются здесь слова. Чтобы намекнуть на связь с апостолами, хватило бы и одноразового упоминания. Значит, Мейеру важно было указать на множественность как таковую, на «я» как некий коллектив, что выражено уже в процитированном выше тексте, который послужил для Мейера источником вдохновения: «Ах, если бы я был монастырем на берегу острова…» Субъект — поэт — развертывает себя, словно веер. «Нас много!»: эти заключительные слова знаменитого стихотворения Мейера «Хор мертвых» имеют в виду, среди прочего, и парадокс поэтической индивидуальности. Как биографическое время — время жизни поэта — отличается от времени существования произведения (времени, которое длится «вот уже тысячу лет» и будет длиться «еще целую тысячу лет»), так же и биографическое «я» отличается от инстанции, создающей произведение: «мы» служат музыке «даже и без черепов».
Это всё может быть прочитано как удивительная и неожиданная для нас противоположная модель по отношению к господствовавшей в ту эпоху тенденции: прославлению неповторимого творческого субъекта, апофеозу художника как уникальной личности, которая возвышается над массой обычных людей, потому что и этот художник единственен в своем роде, и единственно в своем роде его творение. Так, вообще говоря, думал и сам Мейер: в соответствии с ренессансной манерой того времени он прославлял выдающихся личностей, оставивших особый след в искусстве и истории. И будь он только таким, чутким к веяниям моды, поэтом 1870–1880-х годов, мы бы давно отвели ему место (как и его посмертной маске) в журналах по литературной истории. Но время от времени он — те многие, которые были им, те двенадцать апостолов тысячелетнего искусства, которые не имели учителя, — пел «своею душою», не вполне понимая собственную песню. И тогда людям казалось — кажется еще и сегодня, — будто они слышат Орфея.