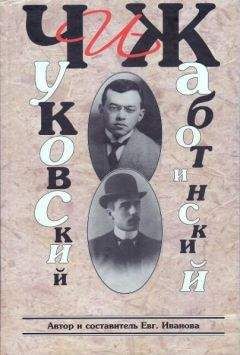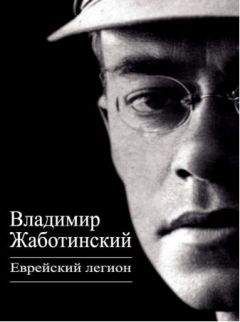Постскриптум
Собрав в один сюжет все, что удалось найти об отношениях ЧиЖ, впору задуматься над вопросом: можно ли в двух словах определить, чем были они друг для друга? Едва ли удастся как-то скруглить этот сюжет, свести его к какой-нибудь готовой формуле: дружба-вражда, любовь-ненависть, учитель и ученик. Единственный непреложный факт состоит в том, что в начале журналистского поприща Жаботинский был наставником Чуковского, позднее, когда оба они пошли «другим путем», Жаботинский не терял его из виду. Между ними установились отношения равенства, позднее известность Чуковского стала превосходить известность Жаботинского, деятельность которого долгие годы носила полуконспиративный характер, но едва ли это что-нибудь изменило для них: судя по последней лондонской встрече 1916 года, встретились они так, точно расстались вчера. Сложность поиска подходящих определений в том и состоит, что их жизненные пути складывались как расходящиеся из одной точки линии. У каждого на этих путях была, выражаясь современным словом, харизма, и потому ни вражды, ни дружбы, ни любви, ни ненависти, по существу, быть и не могло. Не поддается сопоставлению и слава, которая выпала на долю каждого из них, слишком в разной области стяжали они свои лавры. Ничего похожего на «победителя-ученика» и «побежденного учителя» мы в отношениях ЧиЖ не найдем.
Но сюжет их отношений, как запечатлелся он в перекликающихся текстах, как восстает он в комментариях к ним, рассказывает, как много неизвестного за пределами привычных представлений о каждом из них. И если магистральная линия сюжета не дает нам окончательных решений, его боковые ответвления дают богатейший материал для понимания идей и судеб людей теперь уже прошлого двадцатого века.
Одно лишь в этом сюжете вызывает подлинное сожаление: жаль, что Р. П. Марголина не прислала первый том биографии Шлехтмана, которую Чуковский мог бы прокомментировать как никто другой, и что не прислала она роман «Пятеро» — и здесь он был одним из немногих, кому было что рассказать о прототипах романа.
Еще одно хотелось бы добавить к сюжету. Несколько лет назад М. Золотоносов возбудил расследование по вопросу об антисемитизме Чуковского. Главной уликой оказалась скромная Муха-цокотуха, которая, как многие помнят, на свою беду сначала по полю пошла, потом денежку нашла. Жизнь этой Мухи не задалась с самого начала. В советское время ее преследовали за празднование именин, которые в раннесоветское время были объявлены буржуазным предрассудком. Выйдя из-под одного запрета, она оказалась под угрозой нового: фрейдистский инструментарий Золотоносова, проникнув через Муху в подсознание автора, понаоткрывал там такого, что впору снова ее изъять.
Какие же фрейдистские улики обнаружил Золотоносов в этой простодушной, с первого взгляда, скромнице? Обнаружил немало: «В „Мухе“, написанной очень быстро, „сгоряча“, в один день, отразились различные мотивы и образы, хранившиеся в подсознании автора. В частности, мотив незаконнорожденности, мучивший долгие годы, еврейская национальность отца. За основными героями сказки — Мухой, Пауком, Комаром — стоят русская женщина (Россия), еврейское начало и патриотические силы, освобождающие от объятий „могучих колец Израиля“. <…> За Пауком стоит отец-еврей, бросивший мать с двумя детьми. Но эта ненависть в подсознании приобрела национальную окраску: еврей оказывается Пауком. И это не случайно, тут сработал контекст, ибо именно так в дореволюционной антисемитской субкультуре обозначали евреев. Был антисемитский журнал „Паук“, соответствующие романы — „Пауки“, „Паутина“… В антисемитских газетах печатались карикатуры, на которых евреи изображались в виде пауков»[275].
Итак, теперь Чуковскому предлагается ответить за антисемитские издания, изрядная начитанность в которых, по моим наблюдениям, обременяет главным образом подсознание самого Золотоносова.
Чуковский в его изображении хоть и бессознательно, но на удивление добросовестно не только воспроизводит все, что о евреях писали в антисемитских изданиях, но присовокупляет к ним (надо полагать, сознательно) тенденциозно истолковываемый русский фольклор, в частности сборники упоминавшегося в тексте нашей работы Шейна: «Например, фразу „Пошла Муха на базар“ Чуковский переделал из фразы „Пошла Дуня на базар“. И таких примеров много. Однако готовые сюжетные ситуации и образы насекомых из фольклорных текстов оказались тенденциозно переработанными. Комар как освободитель Мухи фольклору неизвестен. Зато не случайно он вдруг оказывается сидящим на коне, с саблей в руке и отрубает Пауку голову (у паука, если точно, головогрудь). Он повторяет змееборческий подвиг св. Георгия Победоносца. Поэтому формула чествования гласит: „Слава, слава Комару-Победителю!“. Паук же имеет еще и черты змея. А эта вторая ипостась, в свою очередь, восходит к распространенным в антисемитской литературе изображениям евреев в виде змей: „По полям, городам жид ползет и ползет и, гадюкой шипя, извивается“. Все сходится. <…> А Муха наделена признаками, свойственными фольклорному образу русского человека: беззаботность, веселость, простота, общительность, гостеприимство, доброжелательность… Естественно возникает и поле, по которому зачем-то пошла Муха, — специфический русский топос. При этом характерно упоминание крови, которую Паук выпивает из Мухи, хотя крови у Мухи не может быть. <…> А еще и распространенная в антисемитской субкультуре метафора: „евреи пьют кровь русского человека“. Была даже пословица: „Жид в деле как пиявка в теле“. Попутно можно заметить, что Комар сопоставляется с известным славянским деятелем Виссарионом Комаровым, издателем ряда антисемитских газет и журналов. Среди них были журнал и газета „Свет“, отсюда „маленький фонарик“ Комара. Комаров участвовал в сербско-турецкой войне, был генералом, бил „бусурман“. Отсюда и сабля».
Жаль, однако, что филосемиты и антисемиты друг друга не читают, каждый пишет о своем. Иначе стало бы невозможным появление статьи В. Бушина на ту же тему, где сферой исследования стал бессознательный теперь уже филосемитизм Чуковского (разумеется, осуждаемый). В отличие от Золотоносова, Бушин для вторжения в подсознание Чуковского использует не фрейдистский скальпель, а статистические методы. С карандашом и калькулятором в руках он подробно исследовал все положительные и отрицательные характеристики различных людей в дневниках Чуковского, затем распределил их по национальной принадлежности и сделал совершенно ошеломляющее открытие: евреев Чуковский хвалит гораздо более охотно, чем русских.
Вот Золотоносову кажется подозрительным то, что Муха-цокотуха в изображении Чуковского воплощает лучшие черты русских («беззаботность, веселость, простота, общительность, гостеприимство, доброжелательность»), которые он, видимо, не считает свойственными евреям. С точки зрения Бушина, все обстоит ровным счетом наоборот: «Евреи под пером Чуковского — это роскошный редчайший букет из самоотверженности, бескорыстия и тончайшей интеллигентности. Это делает понятным, закономерным и даже благородным то тщание, с коим автор дневника совершенно в духе Старовойтовой всюду вынюхивал антисемитизм и заносил в свой гроссбух имена подозреваемых в этом тяжком грехе»[276].
Итак, подсознание у Чуковского вроде бы одно, а результаты его изучения, как видим, разные. Будем надеяться, что наш ЧиЖ внесет свой вклад в изучение темы «Чуковский и евреи», хотя на вторжение в сферу бессознательного он не претендует.
Е. О. Корнейчукова с детьми — Колей и Марусей (середина 1880-х годов)
Зеев Жаботинский в возрасте 16 лет во время учебы в гимназии. 1896 год
Семья Жаботинских в Одессе. 1899 год. Слева — Хава и Зеев Жаботинские. Справа — Пелег (Фаддей) и Тамара Коп (Коппе)
З. Жаботинский. 1898 год
Дом № 4 на улице Почтовая в Одессе (ныне ул. Жуковского), в котором жил З. Жаботинский в 1901–1903 годах
К. И. Чуковский. Одесса. 1904 год
К. И. Чуковский. Одесса. 1902 год. Публикуется впервые
К. И. Чуковский. Лондон. 1904 год
Дом З. Жаботинского в местечке Александрия, возле Ровно. 1905 год
К. И. Чуковский. Петербург. Около 1906 года. Публикуется впервые
А. В. Амфитеатров
К. И. Чуковский с газетой «Одесские новости». Переделкино. 1958 год. Фотография М. Поляновского
Улица Лондона: разносчик газет с сообщением о Порт-Артуре. Фотография из дневника К. И. Чуковского