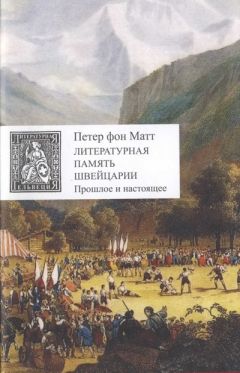Вот и всё. Метла больше не упоминается. Ее история не комментируется. История просто стоит в этом месте, как если бы сама была вещью — случайной, стоящей где попало. Читателю приходит на ум метла как старое транспортное средство ведьм, на котором эти опасные женщины когда-то среди ночи летали на Блоксберг[290](Блок-гору); и тут читатель пугается, потому что в тексте буквально так и написано: ОТПРАВИЛАСЬ СРЕДИ НОЧИ К БЛОКУ. Читатель думает: «Такого просто не может быть; у меня разыгралось воображение», — но теперь он уже не может выбросить из головы эту фразу.
Осязаемая конкретность таких образов-знаков сочетается с их непостижимостью. Рассказы этой писательницы наполнены вещами, которые напоминают символы традиционной литературы, но при этом как бы пребывают в подвешенном состоянии, вне привычной нам сети значений. Они трепещут от содержащегося в них смысла, который нам никогда не удается раскрыть полностью. Часто мы даже не можем решить, является ли такой мерцающий феномен сигналом, который писательница подает читателям, то есть ее метафорой, или же это элемент фантазий очередного одинокого персонажа. Поэзия или безумие? Невозможность однозначно ответить на этот вопрос связана с самой сутью эстетики Адельхайд Дюванель. Ее искусство живет неозвученным признанием тождества любви, безумия и поэзии — представленных тремя фигурами, «the lunatic, the lover and the poet…»[291], о которых говорит Шекспир (это место из «Сна в летнюю ночь» на самом деле не такое безобидное, как мы привыкли его воспринимать).
Например, один рассказ начинается так: «Снежные хлопья горизонтально проносились за окнами, а когда Мерет поставила пустую кофейную чашку на кухонный стол, ей показалось, что снег летит снизу вверх, в небо»[292]. Это как раз поворотный пункт между пристальным взглядом на внешнюю действительность и внезапным обнаружением какого-то другого, герметично-своеобразного мира. Стоит читателю один раз заметить такое, и он будет повсюду находить — у Дюванель — подобные места, которые порой трудно забыть: «Однажды в полночь она сидела дома и услышала, как кто-то несется по улице, и подумала, что это две лошади вырвались на волю, чтобы спариться на поляне в лесу»[293]. Похожее движение мысли запечатлено и в бесподобном резюме, которое пишет и отсылает женщина из рассказа «Перегруженный работник»[294]:
Я динамична и вместе с тем терпелива. Когда я не сплю (чего с некоторого времени больше не могу), я часами медитирую и в это время меня не нужно ни кормить, ни поить; по вечерам я сама ищу добычу, покидая город и рыская по долине: птицам и мышам от меня не скрыться[295].
Если бы приведенные выше фразы стояли в каком-нибудь тексте Роберта Вальзера, как бы их цитировали и комментировали члены сообщества почитателей этого автора!
Такое странное «свободное парение» знака — не просто эстетический элемент; оно еще и соотносится с пустыми пространствами, которые в рассказах Адельхайд Дюванель разверзаются между абзацами, между какими-то частями текста, а часто и между отдельными предложениями. Мы то и дело сталкиваемся с лакунами, которые нам хотелось бы в процессе чтения закрыть — привычным способом, пользуясь известными правилами обращения с лакунами. Но мы никогда не достигаем желаемого результата. Здесь части не хотят состыковываться одна с другой, взаимосвязь между ними остается неясной. Как бы сильно ни был читатель вовлечен в какую-то сцену, он тут же чувствует, что опять беспомощно стоит снаружи — отделенный не поддающейся определению дистанцией и от персонажа, о котором идет речь, и от рассказа в целом. Иногда такое расползание частей происходит в рамках одного-единственного абзаца:
Госпожа Вендехаупт вот уже четыре года живет на втором этаже окраинного городского дома. Будучи женщиной простой, она не подвергает себя опасности умышленно. Она любит все времена года. По ночам ее комната отражается в черном окне. Луна выкашивает луга[296].
Имея в виду одно из подобных мест, можно было бы поговорить о просчитанной наивности в повествовательной манере этой писательницы. Адельхайд Дюванель вновь и вновь прибегает к речевым оборотам, напоминающим тексты для чтения в старых школьных учебниках. Есть люди, которые, сталкиваясь с такими отрывками, сами начинают мнить себя учителями и утверждают, что мы, мол, имеем здесь дело с беспомощностью, что этой пишущей женщине надо бы помочь. Как будто ловко построенные тексты, гламурные фразы не стали давным-давно рутиной, как будто навыки создания таких текстов нельзя приобрести, прослушав любой учебный курс для пиарщиков. Особенно один (частый у Дюванель) повествовательный прием — когда уже в первой фразе упоминается личное имя главного героя — вызывает ассоциацию с устаревшими хрестоматиями для чтения и как бы воспроизводит покрывающую эти хрестоматии пыль, да и сам процесс медленного чтения, на который они когда-то были рассчитаны. Но тот, кого это раздражает, не должен забывать, что и полотна Пауля Клее на протяжении десятилетий комментировали одной и той же фразой: «Такое могла бы нарисовать и моя дочурка».
В какой значительной мере за этим повествованием об ужасных тяготах жизни скрывается свободная воля большой художницы, показывают крошечные зарисовки природы, которые вспыхивают во многих текстах, как вкрапления слюды в гранитной породе. Такие картинки никогда не растворяются полностью в сюжете, они сохраняют удивительную самостоятельность, существуя как бы наряду с мыслями и чувствами персонажей. Они волнуют нас, как иноземная поэзия. В одном месте, например, говорится: «Вздыбились большие, черные тучи, и солнце золотой нитью быстро подшило некоторые крыши к деревьям, чтобы на ветру ничего не потерялось»[297]. Или, в другом месте: «Когда он шел через мост к вокзалу, чтобы поехать по железной дороге домой, на темно-сером теперь небе стояло маленькое светлое зарево, как будто там взорвалась звезда»[298]. Или: «Однажды солнце склоняется, как белая роза, за край неба»[299]. Или, наконец: «Ветер дергает когтистыми лапами телеграфные провода; под эту мелодию можно было бы петь»[300].
Смерть
11 июля 1996 года Адельхайд Дюванель умерла в окрестностях Базеля, города, где она жила. Ей было шестьдесят лет. Умерла она не без собственного содействия, но и не в результате несомненного самоубийства. Она, как иногда случалось и раньше, с помощью снотворных и успокоительных таблеток бежала из уже не выносимой для нее действительности бодрствующего сознания на ту пограничную территорию, где находиться опасно. При этом она спряталась в лесу, который знала и любила еще в детстве. Июльская ночь выдалась неимоверно холодной. Метеорологи говорили об интересном феномене, необычном для этого времени года. Адельхайд Дюванель той ночью замерзла насмерть. В середине лета. На рассвете ее тело обнаружил какой-то всадник.
Мир, который она описывает — страна Дюванель, — был ей знаком по собственному горькому опыту. Она периодически сама жила среди тех обездоленных, наполовину уже разрушенных людей, с которыми мы встречаемся в ее книгах. Она должна была присматривать за ребенком своей дочери, попавшей в среду наркоманов. Психиатрическая клиника тоже была ей так же хорошо известна, как и тому автору, с которым — как и с Региной Ульман — ее связывает наибольшая близость: Роберту Вальзеру. Даже своей смертью она нам напоминает о нем[301]. Представление, что когда-нибудь он замерзнет, погибнет в снегу, сопровождало Роберта Вальзера с ранних лет. Снег всегда был для него и тем, и другим: и чем-то очень нежным, и чем-то жестоко-твердым. В романе «Семейство Таннер» Симон находит в зимнем лесу мертвого поэта, своего замерзшего брата. Перед нами, с одной стороны, реалистически описанное событие, а с другой — описание сновидческой встречи с самим собой. Это место может быть прочитано как эпитафия для Адельхайд Дюванель:
Примерно на середине склона Симон внезапно увидел молодого человека, лежащего на дороге, в снегу. В лесу еще оставалось так много последнего света, что он смог рассмотреть спящего. Что побудило этого человека — в такой жестокий мороз и в таком уединенном месте, в еловом лесу, — улечься на землю? Шляпа с широкими полями прикрывала ему лицо, как часто бывает в жаркие, лишенные тени летние дни, когда прилегший отдохнуть человек таким образом защищает себя от солнечных лучей, чтобы суметь заснуть. Было что-то пугающее в этом прикрытом лице посреди зимы, в пору, когда поистине никому не доставит удовольствия возможность примоститься здесь, в снегу. Человек лежал неподвижно, в лесу же мало-помалу сгущались сумерки. Симон изучал ноги, ботинки, одежду этого мужчины. Одежда была светло-желтой — летний костюм, из очень тонкой, поношенной материи. Симон снял шляпу с лица мужчины — лицо окоченело и выглядело ужасно; и теперь он вдруг узнал это лицо, это было лицо Себастьяна, вне всякого сомнения: черты Себастьяна, его рот, его борода, его широкий, приплюснутый нос, и знакомый разрез глаз, знакомые лоб и волосы. И он замерз насмерть, несомненно, и наверняка уже сколько-то времени пролежал здесь на дороге. На снегу поблизости не было никаких следов, и это наводило на мысль, что лежит он здесь уже давно. Лицо и руки давно окоченели, одежда прилипла к замерзшему телу[302].