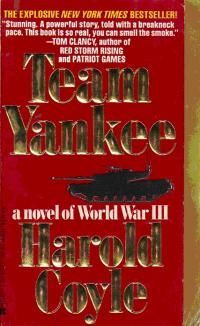Еще раз притормозили. Метрах в десяти, на взгорке, стояла не по-будничному одетая тетка и, прикрыв ладонью глаза от слепящего солнца, смотрела на дорогу. Крепдешиновое, модное когда-то платье неуклюже свисало с ее худых плеч. Голова была покрыта розовой косынкой.
— Со станции? — крикнула она. — Брянский был?
Доронин открыл дверцу.
— Прошел брянский.
— Не видали, военный не сходил? — Тетка вглядывалась в приезжего. — Никак Володька Доронин, Петров брат?
И приезжий узнал женщину: Потапова Мария, с ее мужем воевали рядом.
— Не видал сына мово?
— Он все служит?
— Слу-ужит, — ответила женщина. — Ты заходи, Владимир Федрыч, на часок. Витька будет радый, отца вспомянете. Ну, ехайте, я еще подежурю…
Некоторое время, пока машина не скатилась в лог, Доронин видел в заднем стекле застывшую на взгорке женскую фигуру. Вот так и его мать выглядывала в сорок пятом. Теперь что: не сегодня, так завтра приедет, а тогда — иди знай…
— Значит, Петра Федоровича брат, — оживился директор. — Как я сразу не скумекал, одно же лицо. А Петро теперь в поле, уборка. И сыновья с ним. Повезло Петру на сыновей — четверо! А вы надолго к нам?
— Месяц отпуска…
Машину сильно тряхнуло — колесо попало в выбоину. Гостя подкинуло так, что он достал макушкой до трубки тентодержателя.
— Беда с дорогами, — как бы извинился директор, — рук не хватает: ферму строим, клуб, памятник воинам хотим обновить. Вы, случаем, не строитель?
— Литейщик, — ответил Доронин. — Инженер-литейщик.
— Жаль, — полуобернулся директор, — я уж, грешным делом, хотел подрядить на месячишко. Что ж, тогда отдыхайте. Хороши сейчас зорьки на Снежети!
Доронину вспомнилась серебристая змейка реки, которая брала здесь исток, душное безветрие низких берегов и камышовых зарослей, представил на миг раскаленный диск солнца, выкатывающийся туманным утром на росистые зеленые бугры. От этих воспоминаний сладко запершило в горле.
Встретили Доронина невестка и младший из племянников. Гость умылся с дороги, осмотрел комнаты, вошел в горницу: здесь уже накрыли на стол. Гость запротестовал, мол, брата будет ждать, невестка мягко возразила: «Они до самой росы молотят».
Постель была предусмотрительно разобрана. Доронин прилег, закинув руки за голову, уставясь в чисто и ровно выбеленный известью потолок. Давно не был на родине. Едва дождался отпуска. Так нашло, хоть среди ночи срывайся и езжай. После Орла в вагоне уже не сиделось. Выскакивал в тамбур, курил, прилипал лбом к стеклу.
В спальню заглянул племянник.
— Вы отдыхайте, дядь, а мы с мамкой — на ток, дорабатывать. Тут ваши бумаги нашлись, посмотрите…
Он сунул Доронину в руки потертый газетный сверток, перевязанный бечевкой, и тихо вышел, неслышно притворив дверь.
Доронин развернул и разгладил пожелтевшую газету. В ней оказались старые, уже ненужные справки о том, что он работал по направлению после окончания института в Вольске на заводе, корешки расчетных листков, поздравительные открытки. И на саму обертку пошла Вольская газета «Цемент». Он с любопытством читал старую газету. На последней странице выделялся заголовок: «Творчество наших читателей».
Я помню те багровые закаты
И ту девчонку, что, войну кляня,
На одерском непрочном льду когда-то
Спасала, полумертвого, меня.
Внизу стояла подпись: «В. Доронин, технолог литейного цеха». Он ли писал это? Прошло время, прошло… Он не помнил лица той медсестры (так шибануло, что сознание потерял). Из госпиталя вышел — искал ее… Это же надо — с плацдарма тащила через разбитый лед. А сколько ребят там осталось? Сколько под лед ушло вместе с орудиями?
Он прибыл на фронт, когда уже освобождали Польшу. Когда выходили к Одеру, имел польскую медаль. Служил в расчете 45-миллиметрового орудия. После приказа форсировать реку по льду командир орудия пожилой сибиряк Герасимов сказал ему:
— Бери, сынок, ящик со снарядами — и на ту сторону.
Доронин полз по прогибающемуся льду, толкая впереди себя тяжелый ящик, минуя полыньи и свежие проруби с темной дымящейся водой. Он полз и смотрел вправо, где, прикрываясь от осколков щитом, катили пушку его товарищи. Вода набиралась Доронину в рукава шинели, намокшее белье холодно и жестко прилипало к телу. Батарея за батареей двигался артдивизион по тонкому льду реки. Фашисты били по наступающим в упор. По всей реке вставали мутные фонтаны воды.
Долбануло рядом — под Дорониным треснуло. Он опрокинулся в воду, отчаянно забарахтался, хватаясь за ломкие края льда. На выручку ему полз солдат.
— Рукавицу сыми! Рукавицу! — кричал со льда боец.
Доронин сдернул зубами рукавицу, уцепился ногтями за лед, поймал конец брючного ремня…
Ящик со снарядами лежал в двух метрах нетронутый, вроде дожидался. А может, это был не его ящик. Доронин снова толкал груз впереди себя разбитыми, скрюченными от холода пальцами, и слезы обиды и горечи стекали вместе с каплями грязной воды по сизым от февральского ветра щекам.
На том берегу Доронин, трудно дыша, поднялся на дрожащие ноги, не выпуская из рук ящика. Вода еще стекала с шинели в широкие голенища сапог. Оглянулся по сторонам: ни Герасимова, ни пушки.
— Снаряды! — орал какой-то незнакомый сержант, разворачивая на берегу пушку на прямую наводку.
Доронин, вздрагивая от близких взрывов, все еще стоял с ящиком в руках, ища глазами и не находя своих.
— Снаряды давай! — махал ошалевшему от взрывов, ледяной купели и суматохи переправы солдату незнакомый командир орудия.
Пригибаясь, раскоряча ноги, побежал он с ящиком на зов сержанта. Оставалось несколько шагов, когда, как на острое шило, напоролся на что-то грудью…
Брат приехал с поля ночью, почти на рассвете. Доронин слышал сквозь сон, как Петро разговаривал с женой, и заставил себя подняться.
— Ну зачем встал? — обнимая брата, сконфуженно говорил Петро.
От него волнующе пахло теплым зерном, машинным маслом, свежей стерней. Появились племянники. Тоже пообнимались с дядькой, сели за стол. Разговор начался живо: «Как твои? Вера все в садике работает? Генка большой, небось, вымахал?» После рюмки и обильной еды усталость брала свое. Ребята откровенно клевали носами.
— Ложись, братва, — скомандовал сыновьям Петро. — В пять подыму.
— Сам ложись, — пожалел Доронин брата.
— Не поговорили даже.
— Поговорим еще, ложись.
Петро заснул, едва коснулся головой подушки, а Доронин взял спички, папиросы и вышел во двор.
От висевшей посредине неба луны, от густо рассыпанных в вышине звезд стекал на крыши домов, на сельскую улицу ровный матовый свет. Утихла последняя хлопотливая зерномашина на току, звонкая тишина завладела сонным пространством. Доронин давно не испытывал такого благостного ощущения одиночества.
В его собственном доме, там, на юге, в Мелитополе, Доронин для таких светлых минут требуемого душе одиночества приспособил специальный уголок. «Чудило», — говорила жена, когда он обшивал чердак досками, устраивал по бокам стеллажи для книг, прилаживал у слухового окна мольберт. В Мелитополе, куда он переехал из Вольска, на него обрушилась вся южная благодать: близость моря, дурман цветущих акаций, тучные черешневые и абрикосовые сады, тишина теплых, недвижных ночей.
Только перестук поездов слышался отчетливо на доронинском чердаке, когда он там «чудил». То обкладывался толстыми философскими трактатами и выписывал что-то в школьную тетрадь, то замирал с кистью у мольберта, то расхаживал взад-вперед, заучивая с листа роль для драмкружка, то нетерпеливо выглядывал в оконце, ждал дождя…
С детства он был неравнодушен к дождям. Они на Брянщине заряжали надолго. От водяной пленки стекла в избе казались кривыми, а ближние, видные из окна бугры лежали нахохлившиеся, почерневшие, как наработавшиеся волы.
На юге стояла сухость. Заслышав однажды среди ночи шорох водяных струй в шершавой листве, Доронин тихонько и счастливо засмеялся. Он погасил лампу на чердаке и открыл слуховое окно. Дождя не было. Соседи поливали огород.
Доронина сторонились сперва. Непонятный человек. Инженер, а ходит в льняной косоворотке, в кургузом пиджачке. Мебель в доме — самодельная. На участке сказочную избушку поставил. Натуральную, из бревен. Рядом репку из цемента слепил, с дедом, бабкой… Разукрасил — смехота! Как тут не дивиться. По ночам свет под крышей. Потом обвыкли; чего бояться, если сама жена «чудилом» зовет. Стали здороваться, он отвечал с простецкой улыбочкой, а глаза смотрели далеко куда-то…
Но бывало неделями свет по ночам не горел на чердаке. Хозяин поздно приходил с завода. Машину какую-то выдумывал для своей литейки. Приходил затемно, быстро, неразборчиво ел и бежал в сарай к верстаку. До полуночи оттуда слышался визг напильника, скрежет сверла. Потом гремел во дворе умывальник, и стихало все до утра. Утром хозяйка выплескивала в яму за домом таз черной маслянистой воды. Наконец Доронин сдавал машину, приносил с завода домой очередную грамоту и снова зажигал лампу на чердаке.