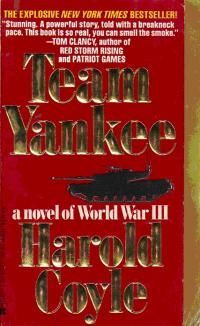Тихо ходил по родным деревенским улицам приезжий, посвечивая в редеющей к утру темноте зажженной папироской. Он добрел до сквера с белой пирамидой памятника в центре. Когда-то пирамида со звездой была деревянной, потом — кирпичной, теперь вот снова разбогатели на обнову. Неподалеку стояло корыто с водой, возвышались кучи песка и глины. Темнела доска с именами погибших односельчан.
Доронин машинально мял кусок глины, окунал его в теплую воду корыта. Пальцы привычно давили, гнули, скребли податливый материал… Получился бесенок с рожками, с хвостиком. Доронин хмыкнул, смял в руке фигурку, только рожки торчали из кулака. Он присел на уголок бревна, набрал еще пригоршню глины и стал месить ладонями, задумчиво поглядывая на памятник, на тихие деревенские улицы, в которые наплывал от Снежети редкий туманец.
Директор удивился, увидев ранним утром у совхозной конторы вчерашнего попутчика с узелком в руках.
— На рыбалку?
— К вам на пару слов.
В кабинете Доронин положил узелок на стол и развязал концы.
— Вот те на! — удивился директор. — Да вы — скульптор.
Директор со всех сторон оглядел глиняную фигурку женщины-матери, глядящей вдаль из-под ладони. Лицо матери было морщинисто и скорбно. Директор переводил взгляд с фигурки на приезжего и одобрительно кивал. Кустистые, цвета спелой соломы брови Доронина то сходились на переносице, то поднимались вверх, отчего лицо делалось то хмурым, то растерянным.
— Вроде того бы, памятник поставить, — сказал наконец гость, — и не в деревне, а за околицей, там, где Потапову вчера встретили.
— Неплохо бы, — согласился директор. — Да кто сделает? У нас в районе таких специалистов нет, старый памятник обновить некому. А вы бы не взялись? — Он доверительно положил руку на покатое доронинское плечо. — Я понимаю, вы отдохнуть приехали.
— Не в этом дело, — покраснел гость, — никогда не делал памятников.
— А это? — указал директор на фигурку.
— Так, — гость повертел в воздухе растопыренными пальцами, — фантазия на темы…
В дверь заглянули.
— Наряд скоро?
Директор обнял Доронина за плечи.
— Соглашайтесь, Владимир Федорович. Обеспечу цементом, арматурой, кирпичом. Подсобника дам. И заплатим, само собой, не обидим.
— Уже обидели, — заметил гость. — Там ведь Доронины тоже лежат.
Пока на указанное Дорониным место за поселком свозили кирпич да цемент, он сам, обложившись в доме брата старыми фотоальбомами, срисовывал подходящие лица. Нужны были два лица — матери и солдата. Доронин задумал постамент с горельефом умирающего в бою солдата, а на постаменте — трехметровая фигура Матери. Лиц с таким выражением, как хотелось, в альбоме не было. Военных было достаточно: и с Отечественной войны, и даже с гражданской. Себя даже обнаружил Доронин. А ведь сниматься не любил. А тут стоит девятнадцатилетний, тонкошеий, в сержантских погонах, с медалью «За боевые заслуги» на вылинявшей от частой стирки гимнастерке. При демобилизации снялся. В худое время люди не фотографируются. Каждому хочется память по себе оставить в лучшем виде. Военные перед объективом держались с достоинством, выкатывали грудь, подбоченивались. Женщины в большинстве сидели под аппаратом спокойно, умиротворенно, сложив на животе натруженные ладони.
Чтобы с натуры кого срисовать — это знал Доронин — в деревне гиблое дело. Он вспомнил, что Потапова приглашала в гости: не с ее ли погибшего мужа горельеф сделать?
Мария выставила поллитровку, свежий окорок, малосольные огурчики, исходящую паром молодую картошку. Сын ее, Виктор, сидел за столом в форменной зеленой рубашке с пётельками для погон. Лицом он в мать, отметил Доронин, а фигурой в отца.
— Как служба? — начал с общего вопроса гость, когда принялись закусывать.
— Служба — труд, солдат — не гость, — бойко выпалил Виктор. — Нормально. Войны нет — служить можно…
— Медаль за что? — покосился гость на мундир, висящий на спинке стула.
— Задание выполняли, — парень поглядел на мать, боясь ее растревожить.
Но ему хотелось поделиться с земляком, тем более фронтовиком, пусть знает: молодые тоже не спасуют, если что…
— Помните, в Курске арсенал немецкий обнаружили? — Он специально ввернул незнакомое матери слово.
Доронин понятливо кивнул. Как из центра Курска эвакуировали население, а потом ржавые бомбы вывозили на грузовиках с песком, он по телевизору видел.
— Ты там был?
— Нет, я в другом месте, такая же история.
— Молодцом!
Гость встал, направился к стене, где в старых рамках под стеклом желтели любительские карточки и среди них снимки Григория Потапова. Виктор тоже поднялся и вышел из-за стола.
— Благодарность отцу от Сталина, — ткнул парень пальцем в одну из рамок.
Доронин кивнул. У него хранилась точно такая же. Двести шестьдесят шестой приказ. Он помнил текст назубок: «Вам, участнику боев при вторжении в пределы Бранденбургской провинции, за отличные боевые действия приказом Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от тридцать первого января сорок пятого года объявляется благодарность».
— На плацдарме отец погиб? — спросил Виктор.
— Там, — ответил Доронин, — против танков стояли… Семьдесят верст до Берлина, немец уже затылком конец чуял.
Гость снял со стены большую рамку.
— Можно карточку Гриши взять на время? Памятник поставлю — верну.
— С него хочешь делать? — спросила хозяйка, провожая Доронина до калитки. — Подсобника дали?
— Пока нет.
— Виктор послезавтра уезжает, могу подсобить. А на карточке Гриша не дюже на себя похож. Вот Вовка, его племяш, что сварщиком в мастерской, — две капли воды.
Каждое утро вездеход директора совхоза притормаживал у взгорка, где возился Доронин.
— В область звонил, — делился директор, — утвердили проект.
Он хозяйским глазом охватывал квадратное подножие памятника, трогал торчащую из него арматуру.
— Каркас уже варят, — сообщил он, — завтра привезут на место. Как Мария, помогает?
— По воду поехала, — кивал Доронин вниз, на голубую излучину Снежети.
— Обрадовал ты ее. Не все, правда, в толк возьмут, почему Потаповым такая честь, погромчее, говорят, герои имеются.
Доронин пытался объяснить:
— Просто это ближе, я воевал с ним рядом, сам чуть в Одере не остался. А памятник ведь не Потаповым, не им, то есть, одним.
— Я-то понимаю, конечно, — кивнул в знак согласия директор.
Вовка-сварщик привез каркас, помог установить. После этого каждый день появлялся на пригорке, чем-нибудь помогал. Доронин рассказал ему о своем замысле, попросил позировать. Вовка не знал, что он должен делать. Доронин объяснил: ничего особенного — лечь на землю, приподняться чуть на правом локте, а левую руку тянуть к нему, Доронину, вроде помощи просит. Вовка попробовал. За его спиной раздался хохот. Мальчишки набежали. Среди них несколько Вовкиных погодков. В городе учатся, теперь каникулы — бездельничают в деревне…
— На зорьке приду, — сказал парень, оглядываясь на пересмешников.
Он пришел, как обещал. Доронин хотел разостлать брезент — роса, но парень бухнулся прямо в мокрую траву и вытянул левую руку, как учили. Доронин принялся за работу.
— Так никто дяде Грише и не помог? — спросил Вовка из травы.
— Нельзя понимать буквально, — пояснял Доронин, ковыряясь в цементе. — Памятник — не фотография, а образ, символ.
— Вы тоже по танкам били там, на Одере?
— Я снаряды подносил. Успел один ящик на ту сторону перетащить.
— Ящик, один?!
— Один, один… Потом ранило разрывной пулей в грудь. Ты ляг, пожалуйста, как лежал, а то напряжения нет в лице.
Парень снова опустился на локоть, изображая на лице напряжение.
— Не кривись, — попросил Доронин, — нормально смотри.
Хорошо поработали с Вовкой в то утро.
Однажды Вовка притащил с собой старуху. Как ему удалось ее уговорить? Старуха Доронину очень понравилась. Лицо в сплошной сетке морщин, глаза острые, спину держит прямо. На палку обопрется и стоит как изваяние. Очень подходящая старуха.
Доронин возился наверху, иногда спускался, говорил со старухой, спрашивал: не устала?
— Устану — уйду, — отвечала та.
Иногда начинала говорить:
— Значитца, Федора Доронина сын. Как жа, знала. Чудно-ой. Коммуну ладил. Хотел, штоба все в одней большой избе жили, вся деревня. А мой-то, царствие небесное, говорит ему: хошь равенство — бери моих девок, у нас четыре дочки было, а мне сына одного отдавай. По-отеха!
А то вдруг глянет старуха на горельеф солдата, перекрестится:
— Вот так и зятья мои загинули. Один в Ермании, как Гришка, другой — на нашей еще стороне, речка какая-то Кисельная…
— Молочная, — подсказал сверху Доронин. Теперь он на берегу той речки жил.