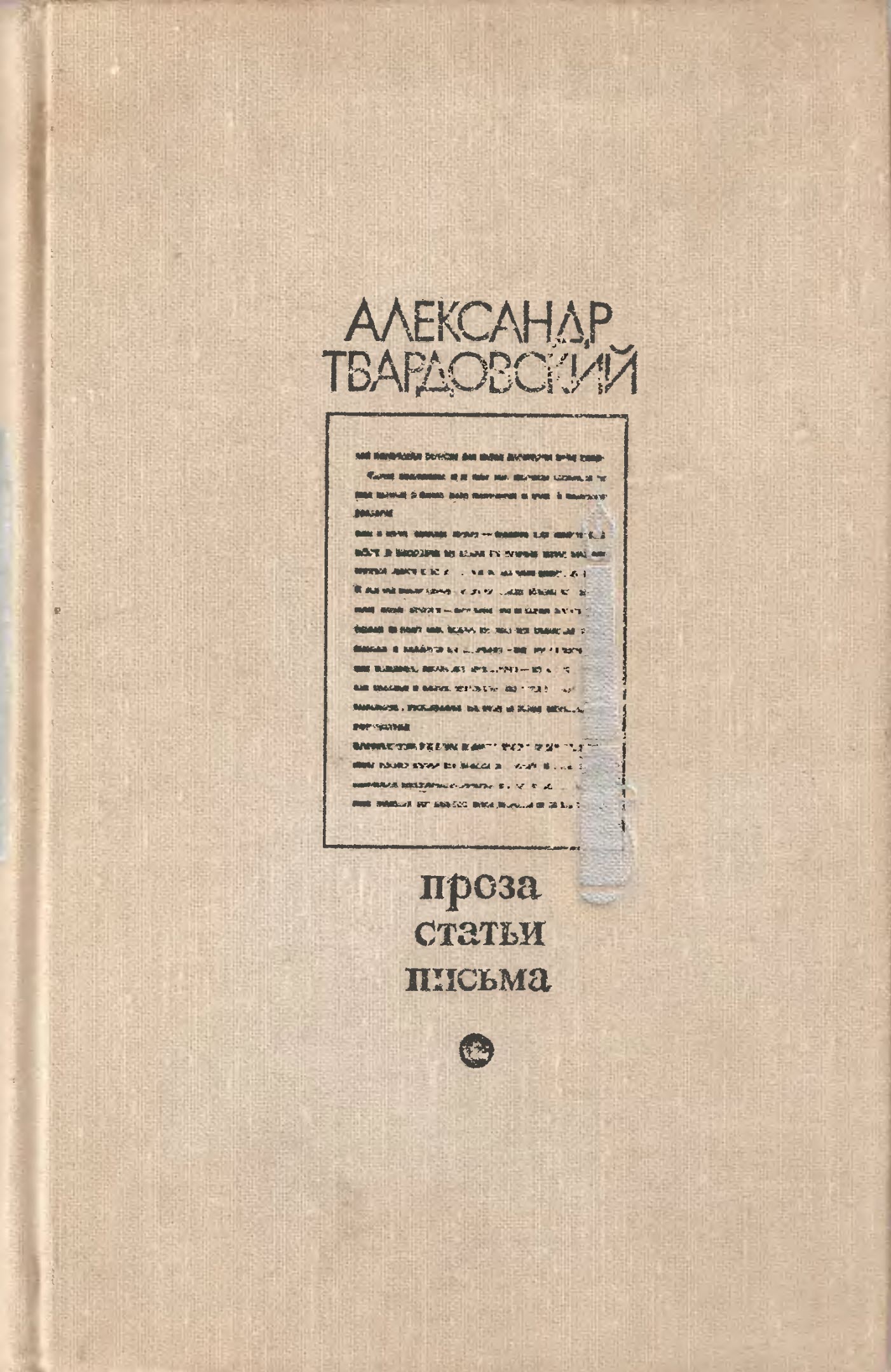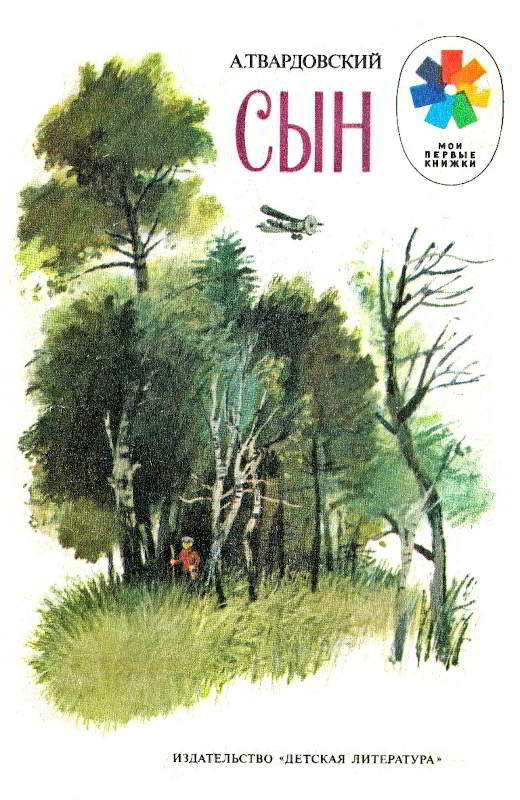загудели:
— Ясно, какую норму?..
— Мы должны знать, а не кто за нас!
— Скажи мне, сколько я заработал за день, — и все тут!
— Нечего тут мерить!
Бабы кричали особенно азартно.
А дядя, оказывается, говоря о норме, имел в виду не норму выработки, а деньги.
— Граждане, сейчас вы пойдете на работу, а мы с товарищем Голубем займемся этим вопросом. Мы затем и пришли. Голубь, отправляй…
— Ну, отправляй! Ты ж председатель.
— Я — председатель, а ты — бригадир. Я тебе говорю: отправляй.
— Ты ж тут стоишь. Скажи сам, чтоб шли.
— Сам я говорить не буду, а тебе последний раз предлагаю распорядиться.
— Не куражься, Голубь, — сказала женщина, — делай свое дело. Ждем!
— Чего ж вы ждете? Идите.
— Нет, ты должен, как бригадир, сказать!
Голубь стоял насупившись, как ребенок, и чистил сломанной спичкой ногти.
— Голубь! — раздраженно выкрикнула женщина.
— Правда, Голубь, действуй же ты!
— Надо ж распорядиться…
— Говори, Голубь! — поднялись обеспокоенные голоса.
— Как твоя фамилия? — обратился я к женщине, повязанной шарфом.
— Полякова Антонина, — ответили за нее бабы, как бы гордясь ею.
— Полякова Антонина… Хорошо. Ты примешь сейчас на себя обязанности бригадира: товарищ Голубь временно будет занят…
— А не! Пускай Голубь. Голубь!
— Что?
— Начинай ты, не колупайся.
— Тебя назначили — ты и начинай.
— Ах, так твою! — сказанула Антонина и, повернувшись к присевшим со смеху пахарям, закричала: — Чего стоите?! Собирайте коней, ну!..
Бригада тронулась в разные стороны к лошадям. Бабы были довольны, словно только того и добивались.
Отходя, они кричали издалека весело и приятельски:
— Антонин! Кому заезжать?
— Бригадирша, мой вожжу порвал!
— Кому заезжать?!
* * *
Голубь говорил:
— Все работали ударно, от темного до темного. А как учет произвести — мы и сели. Так и так, говорю, граждане, я за плугом у каждого ходить не приставлен, но работать все должны как следует. Пускай лысковцы мерят каждый день, что напахали, а мы разом вымеряем потом. И кроме того, — обидно мне стало. Я — чистый бедняк. В колхоз пришел не затем, чтоб прохлаждаться, — работаю без оглядки. И нету у меня ничего, кроме колхоза: коровки нет, свиней нет, садика-огородика нет. И на стороне никакого заработка. Что в колхозе — то только и есть у меня. И работал я, не считаясь с тем, что лишку перерабатываю для колхоза. Может, тому, кто, кроме колхоза, имеет еще у себя десятину огорода да всякие брюквы кормовые, — может, тому и нужно (это я так думал) считать, сколько он сделал для общего блага, — чтобы против единоличного больше не вышло…
Тарас Кузьмич откашлянулся, но промолчал.
— Ну, говорю, граждане, работаем — и никаких. Нужно измерять — пускай сами измеряют, а мы как работали, так и будем работать. У нас господ нет. Все равны на работе.
Тарас Кузьмич опустился и сел в знак того, что он не хочет утруждать себя и стоя слушать такие разговоры.
А Голубь вдруг повернул:
— Будем мерить, раз пришли. Мерить, я полагаю, есть что. А относительно моего поведения — я извиняюсь…
— Это на правлении, — перебил я.
— Потому, что объясняю, как есть, был обижен. Обидно мне было. Но раз пришли — будем мерить.
Мы приступили к делу, так и не договорившись с Голубем окончательно. Он чувствовал себя виноватым, старался, летал по полю с двухметровым ореховым треугольником, не разгибаясь. Часа в два мы увидели, подсчитав, что норма выполнялась.
Производя обмер, мы постепенно приблизились к пахарям. Глядя на пахоту, я долго не знал, что сказать по поводу того, что пахота уж больно неровная. Здесь мальчик не мог бы идти, как по ступенькам: одна ступенька целиком скрывалась под другой, более широкой, третья лежала поперек первых и т. д.
— Пашут… — сказал, глядя на это, Тарас Дворецкий, вложив в одно слово такой смысл: пашут скверно, неаккуратно, неровно, недобросовестно.
Мимо нас протащился, покачиваясь, с плужком дядя, остриженный «под чашку». Он до того ласково и бережно понукал лошадь, что я спросил:
— Что она у тебя?
— Трехлеточек, — беспомощно протянул он и начал причмокивать: — Ну, детка! Ну, тащи потихоньку, тащи как-нибудь, колхозница!
Я сказал ему вслед:
— Колхозную лошадь беречь — дело хорошее, но пахать тоже нужно.
— Колхозную! — громко хмыкнул Голубь. — Сам-то он колхозник, а лошадь его собственная.
— Как так?
— Да так. Постановляли ж мы с весны прикрепление к лошадям. Ну, и прикрепили.
— И все на своих лошадях пашут?
— Все. У кого только лошадей не было — тот на чужой. А так все на своих.
— Пустите, начальники, с дороги! — закричала Антонина, идя за плугом уже без шарфа и шубы, несмотря на холодный ветреный день. Она проехала, отвалив чуть ли не на ноги нам широкий пласт, сразу закрывший собой узкий, стоявший ребром пласт первого пахаря.
— Так… А вон на том загоне кто пахал? — спрашиваю я, показывая на пахоту, через которую шел мальчик. — Пахал там этот дядя, что перед Поляковой проехал?
— Нет, — отвечает Голубь, — там пахали мы, у кого кони «чужие»…
12 мая
Правление постановило:
1. Провести по гнединской экономии фактическое обобществление лошадей, прикрепив пахарей и бороновальщиков на весь период весеннего сева к лошадям, но отнюдь не к «своим».
2. Таких пахарей, как Андрей Пучков (стриженный «под чашку»), ставить на отдельный загон — отдельно обмерять их пахоту и отдельно выводить им трудодни.
3. Голубю — за дезорганизаторское поведение на поле в день прибытия лысковской бригады по обмеру — выговор.
13 мая
Дед Мирон с шапкой в руках подходит к моему столу и говорит, что сына его «не отпускают».
— Скажи сыну, — говорю я, — что носить сумку мы подыщем менее мощного человека, а он будет пахать.
Жуковский, обращая на себя внимание всех присутствующих, презрительно улыбается: дескать, сам ты в контакте с сыном.
— Граждане, — вдруг обращается ко всем Мирон, — вы меня знаете?..
— Ну, что? — отозвался Жуковский.
— Граждане, вы меня знаете? Знаете, как я работаю?! Знаете?
— Работаешь хорошо, — сказал Андрей Кузьмич, подняв на минуту голову от своей папки. — Но сын твой кой-чего не сознает!..
— От работы избегает, — добавил Жуковский.
Дед Мирон, утирая пот, беспокойно осмотрелся. Он почувствовал, что из-за сына и его самую добросовестную работу могут поставить ни во что. Но этого он не может допустить…